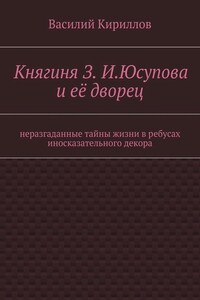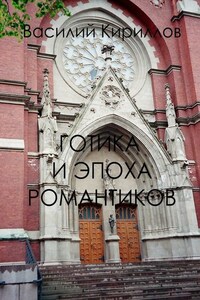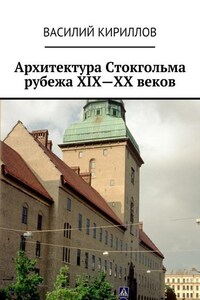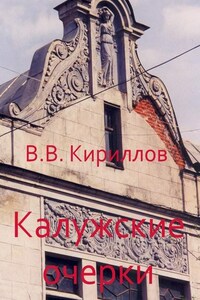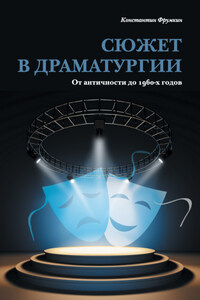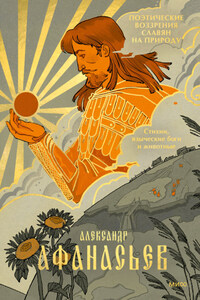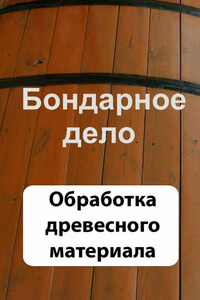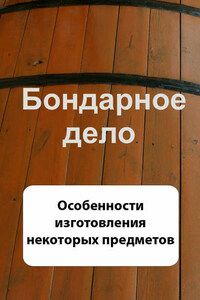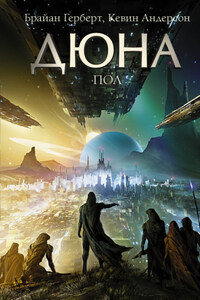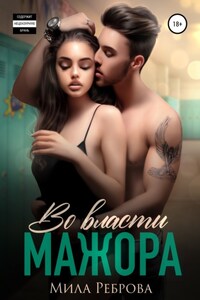Когда-то я учился в Московском государственном университете на Воробьёвых горах, был студентом исторического факультета при кафедре «Истории и теории отечественного и зарубежного искусства». Всегда с некоторой грустью вспоминаю об этом чудесной поре. Тогда я еще не был обременен грузом всевозможных проблем. Ничто не могло надолго повергнуть меня в уныние. Я был готов радоваться каждому новому дню. В моей голове то и дело рождались интересные мысли и фантазии. По утрам я с наслаждением вспоминал картины своих таинственных снов. Мне неудержимо хотелось приключений, романтики и ярких впечатлений…
В Университете время текло быстро и почти незаметно. Лекции по различным дисциплинам гуманитарной науки следовали одна за другой. История, философия, эстетика, искусствоведение… Каждый из педагогов всеми силами пытался мне внушить любовь к своему предмету. Я, буквально, жил в учебных аудиториях, в полутьме просматривал на подвесном экране проекции со слайдов, как умелый стенографист исписывал корявым и небрежным почерком толстые тетради. Эти конспекты, ныне кажущиеся какими-то нелепыми, мне и сейчас иногда попадаются в еще не разобранных, дальних уголках книжных шкафов. И всегда они вызывают у меня на лице искреннюю улыбку, пробуждают вереницы приятных воспоминаний. Я продолжаю хранить эти тетради. Кому-то из будущих студентов они даже помогли сдать экзамены в период учебных сессий. Мне отнюдь не всегда хотелось доверять свои «письмена» чужому, постороннему глазу. Ведь они несли в себе оттенки моей души, хранили тайны моего внутреннего мира. Но получая их обратно, с благодарностями, я понимал, что людям они реально помогли.
После долгих лекций я испытывал некоторое утомление и обычно посещал буфет. Затем, на лестнице между этажами, встречался с друзьями и планировал, как лучше провести вечер. Ничто человеческое было мне не чуждо. Я не относился к числу людей – фанатиков своего дела, которые жили исключительно своими научными интересами. «Книжные черви» – так их иногда называли в шутку. Они всё знали, старательно готовились к экзаменационным сессиям, учились на «отлично» и, как полагается, пользовались уважением у преподавателей. Я же был не столь усерден и «труд упорный мне был тошен». Наверное, не совсем разумно этим хвастаться. Но мне почему-то больше нравилось «бродить» по улицам старой Москвы, рассматривать в натуре сохранившиеся памятники зодчества, изучать различные архитектурные стили, любоваться элементами причудливого декора на фасадах городских зданий. Ампир, эклектика, модерн, конструктивизм… Вскоре я уже научился безошибочно определять черты и признаки того или иного архитектурного направления.
Как здорово, что в те годы, которые ныне ассоциируются у многих в сознании как «темное советское прошлое», студенты еще не были вынуждены заниматься поиском «хлеба насущного», тратить часы или даже дни на так называемые «подработки». Стипендии и родительских пожертвований вполне хватало на существование. А наличие свободного времени? Что может быть лучше для молодого начинающего студента!
По устоявшейся на кафедре искусствоведения традиции, после третьего курса в обязательном порядке устраивалась научно-практическая поездка в Санкт-Петербург. Как правило, она занимала чуть более недели. За этот период времени студенты-искусствоведы, под руководством заранее отобранного наставника из штата преподавателей кафедры, успевали ознакомиться с шедеврами архитектуры города на Неве – Зимним дворцом, роскошными царскими усадьбами в Царском селе, Петергофе, Павловске и Ораниенбауме. Помимо главных, были еще и дополнительные экскурсии – в музеи Питера, Исаакиевский собор, здание Адмиралтейства и Биржу, Петропавловскую крепость. Нам на наглядных примерах разъясняли, например, чем Высокий классицизм отличается от Ампира; показывали постройки Д. Кваренги, с их выраженной пластикой объемов, и К.-Б. Росси, больше тяготеющего в своем творчестве к «прямым фасадам» и декоративно-плоскостным решениям. Вычурное «растреллиевское» барокко, строгие «Камероновы» галереи, регулярные ансамбли парков с прудами, фонтанами и скульптурой… Все это поначалу завораживало и очаровывало; затем превращалось в каждодневную обыденность; а к концу поездки становилось даже чуточку надоедливым.
Однажды, у меня, вполне объяснимо, возникла острая потребность в какой-то эмоциональной разрядке, своеобразном отдыхе от «изобилия прекрасного». Захотелось просто уйти куда-то ненадолго от порядком надоевшей многолюдной толпы – групп иностранных туристов с фотоаппаратами, гидов-экскурсоводов, бегло тараторивших на разных языках. И вот как-то, выбрав удобный момент, я в компании ранее неизвестной мне девицы, с вечернего факультета, затерялся среди улиц и каналов прекрасной «Северной Венеции».
Летние дни… Что об этом говорить! Порой они кажутся бесконечными. Тем более, если ты в приятном сообществе. Скверы, утопающие в цветах, уютные кафе, респектабельные особняки, знаменитые питерские дворы-колодцы… Все это было похоже на ленту кинематографа с удивительными и надолго запоминающимися кадрами.
Не знаю почему, но в Петербурге время иногда просто останавливается. Это, поистине, легче почувствовать, нежели объяснить словами. Я прилично устал еще до наступления вечера. Солнце, будто нехотя, клонилось к закату и, по-прежнему, изливало на землю лучи яркого света. О приближении сумерек, пожалуй, говорили только длинные тени домов на разогретом от зноя асфальте.
Не знаю, как мы оказались в этой части города. Мне почему-то бросилась в глаза и запомнилась одна из вывесок. На ней крупными буквами было написано – «Воды Лагидзе». Мы лениво брели в сторону реки Фонтанки и постепенно приближались к бывшему Симеоновскому мосту. Я чуть поднял голову и увидел вдали красиво оформленный фасад. Он будто театральная кулиса удачно венчал перспективу улицы, органично вписываясь в окружающий архитектурный ландшафт. Здание не только притягивало взгляд, но, кажется, обладало какой-то магической силой, воздействующей на мое подсознание.
Вид дворца на Литейном проспекте (фото автора конца 1990-х годов)
Мы подошли чуть ближе. Стали с интересом рассматривать фасад. Это был настоящий маленький дворец. Каменная облицовка, декоративные колонны над входом, женские аллегорические статуи, кариатиды, гербы в центральном аттике – все было исполнено в изысканной манере, говорившей о хорошем вкусе и профессионализме неизвестного зодчего.
«Уж, часом, не забытая ли это всеми работа Франческо Бартоломео Растрелли? – подумал я и тут же опроверг собственную мысль. – Нет… Конечно, нет. Это не барокко. Просто отлично исполненная стилизация в духе архитектуры XVIII столетия. Своего рода имитация, с элементами игры. Однако, все-таки любопытно, кто же автор этой замечательной „подделки“?»