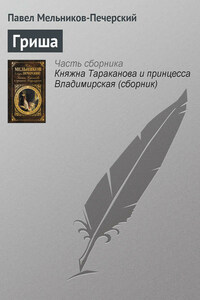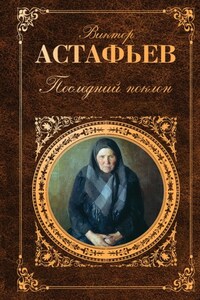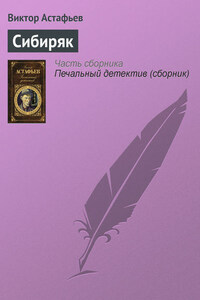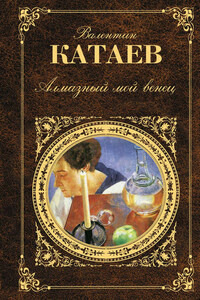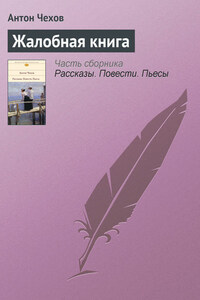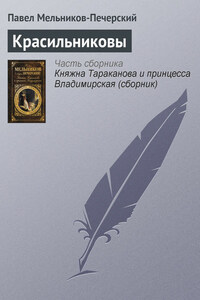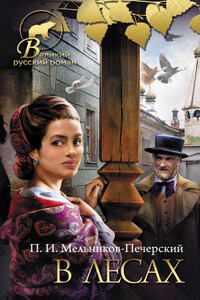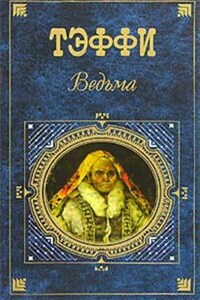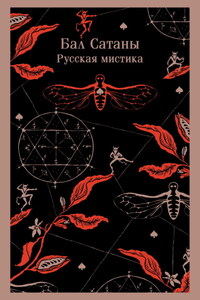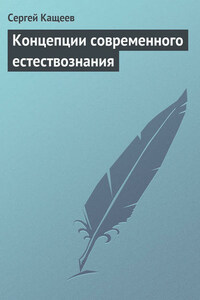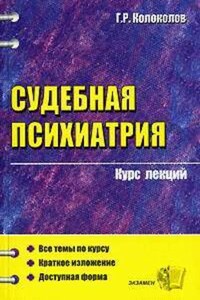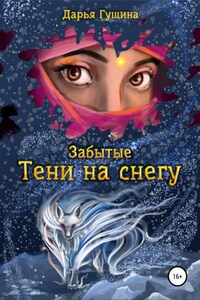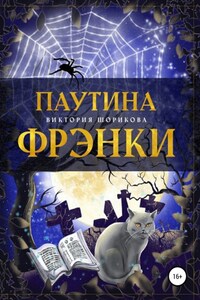Давно то было… Лет пятьдесят и побольше того в уездном городе Колгуеве жило богатое семейство Гусятниковых.
В дальнем углу городка, на самом на всполье, строенья Гусятниковых целый квартал занимали: тут были и кожевня, и салотопня, и свечной завод, и клееварня. До сих пор стоят развалины большого каменного их дома; от других строений следа не осталось – все вычистило в большой пожар, когда в два часа погорело полгорода.
И теперь есть в Колгуеве Гусятниковы, но люди захудалые, обнищалые! Из купцов давно в мещане переписались: старики только что не с сумой ходят, молодые – в солдатство по найму ушли. Сгиб, пропал богатый дом, а лет пятьдесят тому назад был он славен в Казани и в Астрахани, в Москве и в Сибири… Какие были богачи!.. Сколько добра было в доме, какую торговлю вели!.. Все прахом да тленом пошло!
Держался дом Гусятниковых матерью теперешних обнищалых стариков. Покамест жива была Евпраксия Михайловна, жили в богатстве и почете; не стало ее – все на иную стать пошло, – унесла она с собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятниковых. Как схоронили ее, так и зачали сыновья путаться; путались они, путались, да лет через десяток и спать не ужинавши стали ложиться. А не были ни воры, ни бражники: люди тихие, обходительные и не дураки… И никакого после материной смерти божьего наслания не было – ни пожара, ни потопа, ни суда, ни иного какого разорения. И в казенные подряды не вступали и откупов не держали… Такова уж судьба.
Правда, перед смертью Евпраксии Михайловны было горе у них. Но, кажись бы, от того горя нельзя было в кон разориться. Судьба, одно слово – судьба!
Отец Гусятниковых, муж Евпраксии Михайловны, торговал бойко, но дела не совсем в порядке держал. Когда помер, а помер-то он в одночасье, на чужой стороне – в Саратове никак, – чуть было не пришлось дела закрывать. Евпраксия Михайловна молодой вдовой осталась, на руках семья: пять сыновей, две дочери – мал мала меньше. Седьмым ребенком на сносях ходила, как пали к ней вести, что сожитель побывшился. – «Порешились Гусятниковы», – заговорили по купечеству… Родила Евпраксия Михайловна, справилась, сорочины по муже справила и сама за дело взялась. – «Куда молодой бабенке с такими делами возиться, – заговорили купцы, – от таких дел и у старого купца затрещит голова! Куда ей?»
В немощах человеческих господь силу являет: молодая вдова в три-четыре года дела на лучшую ногу поставила, кожевенный завод, при муже чуть не заброшенный, так подняла, что сделался он первым по губернии, и на Макарьевской ярмарке гусятниковская юфть стала всем знаема. Сыновей Евпраксия Михайловна вырастила, выучила, переженила, дочерей за хороших людей замуж повидала: одну в Казань, другую в Муром, третью чуть ли не в Арзамас. Сыновья не делились, все при матери жили даже и тогда, как своих детей переженили. Одно слово – так хорошо да ладно устроила все Евпраксия Михайловна, что и мужчине не всякому так удастся. И наградил ее господь многолетием: видела Евпраксия Михайловна внуков женатых, нянчила, холила правнуков, ото всех людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаенного добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертном одре поднесла господу три дара: первый дар – ночное моленье, другой дар – пост-воздержанье, третий дар – любовь-добродетель.
Страннолюбие поревновала Евпраксия Михайловна. Кто ни приди к ее дому, кто ни помяни у ворот имя Христово – всякому хлеб-соль и теплый угол. С краю обширной усадьбы, недалеко от маленькой речки, на самом на всполье, сердобольная вдовица ставила особую келью ради пристанища людей странных, ради трудников Христовых, ради перехожих богомольцев. Много тут странников привитало, много бедного народа упокоено было, много к господу теплых молитв пролито было за честную вдовицу Евпраксию.
Женского пола странние люди у Евпраксии Михайловны в самом дому привитали; сама она с дочками, покамест замуж их не повидала, да со снохами за странницами, ради бога, ходила… Мужской пол по старому уставу должен жить особо, послужить старцу должен мужчина, – того ради ставила Евпраксия Михайловна на усадьбе особую келью, а потом искала человека, смотрел бы он за келейкой денно-нощно, был бы при ней неотходно, приносил бы старцам и перехожим богомольцам горячую пищу; служил бы не из платы, а по доброму хотенью, плоть да волю свою умерщвлял бы, творил бы дело свое ради бога. В страхе господнем вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дело позывались, но Евпраксия Михайловна им на то говорила:
– Полноте-ка вам, детки! Разве вам того неизвестно, что каждому человеку от бога своя дорога, каждому человеку от господа забота? Вам дана забота – вести торг честный, на келейное дело вы, мои ребятки, не сгодились. Семка присмотрим сироту такого, был бы смирный да богобоязный, бога ради работящий, бога ради терпеливый. По силе помощь ему подадим: барский, так выкупим; вольный, рекрутску квитанцию выправим – станет он у нас старцев покоить да бога молить об отпущеньи наших согрешений… Ладно, что ли, ребятки?
Сыновья матери ни в чем не перечили, а по такому делу и подавно. Решили искать сироту. По скорости отыскали такого.
После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть – круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смирный, тихий, послушный: нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им Псалтирь да Четьи-Минею. И возлюбил Гриша божественные книги, и уж так хорошо пел он духовные песни, что всякий человек, что в суете век свой проводит, заслушается, бывало, его поневоле. А был он из раскольников, из «записных» – из самых, значит, коренных – деды, прадеды его двойной оклад платили, указное платье с желтым козырем носили, браду свою пошлиной откупали. Это было с руки Евпраксии Михайловне: и сама она с детками «по древлему благочестию» пребывала. Только были они не злой какой секты, а по беглому священству – по Рогожскому, значит, кладбищу.
И взяла к себе в дом Евпраксия Михайловна бездомного сироту Гришу. Обмыли его, одели, рекрутскую квитанцию купили и, по доброй его воле, по его благому хотенью, приставили к богадельной келье. Там, за кафельной печкой-голанкой, устроили ему особую каморку. В той каморке, об одном малом оконце, стал жить и подвизаться молодой келейник, а в свободное время, когда в келейке ни скитских старцев, ни перехожих богомольцев не бывало, читал книги о житии пустынном, о подвижниках Христовых, что в Палестине, и во Египте, и в Фиваидских пустынях трудным подвигом, ради господа, подвизались.