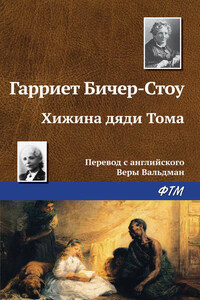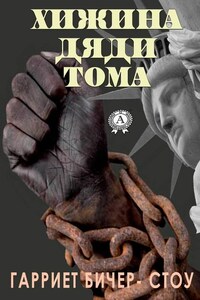Глава I, в которой читатель знакомится с «гуманным» человеком
Однажды холодным февральским днем два джентльмена сидели за бутылкой вина в богато убранной столовой в городе П. штата Кентукки. Прислуги в комнате не было, и они, близко придвинувшись друг к другу, по-видимому, обсуждали какое-то очень важное дело.
Удобства ради мы назвали их обоих джентльменами. Однако, строго говоря, один из них, если отнестись к нему критически, не совсем подходил под это определение. Он был невысокого роста, плотный, с грубыми чертами лица, и его развязный тон выдавал в нем человека низкого звания, который старается во что бы то ни стало пролезть в высшие круги общества. Одет он был крикливо. Пестрый жилет и лихо завязанный синий шейный платок в веселенькую желтую крапинку как нельзя более соответствовали его общему облику. Пальцы его – толстые, заскорузлые – были унизаны перстнями, на массивной золотой цепочке от часов висела целая связка больших разноцветных брелоков, которыми он в пылу беседы самодовольно поигрывал и бренчал.
Речь этого человека находилась в полном противоречии с «Грамматикой» Маррея и была уснащена такими грубыми словечками, что, несмотря на все наше стремление к точности, мы не будем приводить их здесь.
Его собеседник, мистер Шелби, производил впечатление истинного джентльмена, а убранство и весь тон дома свидетельствовали о том, что хозяева его не только не стесняются в средствах, но живут на широкую ногу. Как мы уже упомянули, мужчины, сидевшие за столом, были заняты серьезным разговором.
– Мне бы хотелось уладить наше дело именно так, – сказал мистер Шелби.
– Нет, я вижу, мы с вами никогда не сторгуемся! Не могу, мистер Шелби, решительно не могу, – сказал его гость, поднимая рюмку с коньяком на свет.
– Позвольте, Гейли! Том стоит таких денег. Это незаурядный негр, надежный, честный, смышленый. Под его присмотром хозяйство у меня идет как часы.
– Честный, да честность-то негритянская! – усмехнулся Гейли, подливая себе коньяку.
– Нет! Честный без всяких оговорок. Том добрый, разумный, набожный негр. Его религиозность неподдельная. Он был принят в лоно церкви четыре года назад, и с тех пор я доверяю ему все: деньги, дом, лошадей. Он у меня повсюду разъезжает один, и мне еще никогда не приходилось сомневаться в его порядочности и преданности.
– Многие толкуют, будто набожных негров вовсе не бывает на свете, а на мой взгляд, это неверно, – доверительным тоном сказал Гейли и широко повел рукой. – В последней партии, которую я отвез в Орлеан нынешний год, был один негр. Вот гимны распевал – просто заслушаешься. Как на молитвенном собрании! И такой покладистый, тихий… И на нем неплохо заработал. Купил его по дешевке у одного человека, которому волей-неволей пришлось спускать все свое добро, и чистой прибыли у меня оказалось шестьсот долларов. Да что и говорить! Набожность, если только это настоящий товар, – вещь ценная в негре.
– Можете быть уверены, что у Тома это настоящий товар, – сказал мистер Шелби. – Да вот, посудите сами. Прошлой осенью я послал его в Цинциннати по одному делу. Он должен был доставить мне оттуда пятьсот долларов. Говорю ему: «Том! Доверяю тебе, как христианину. Я знаю, что ты не обманешь своего хозяина». И он вернулся домой, в чем я ни минуты не сомневался. Нашлись низкие люди, которые подговаривали его: «Том, – бежал бы ты в Канаду!» – «Нет, не могу, – ответил Том, – хозяин мне верит». Я только потом об этом узнал. Откровенно говоря, мне очень жаль расставаться с Томом. Он должен пойти в уплату всего моего долга, и вы так бы и посчитали, Гейли, будь в вас хоть капля совести.
– Совести во мне столько, сколько полагается нашему брату коммерсанту, то есть самая малость – только для божбы, – отшутился Гейли. – А друзьям я всегда готов услужить чем могу. Но вы слишком уж многого от меня захотели… слишком многого! – Он сокрушенно вздохнул и снова подлил себе коньяку.
– Так что же вы предлагаете? – спросил мистер Шелби после неловкого молчания.
– А не найдется ли у вас какого-нибудь мальчишки или девчонки в придачу к Тому?
– Гм!.. Нет, лишних не найдется. И вообще только крайняя необходимость вынуждает меня на такую сделку. Мне очень неприятно продавать своих негров.
В эту минуту дверь отворилась, и в столовую вошел очаровательный мальчик-квартерон[1] лет четырех-пяти. Во всем его облике было что-то необычайно милое. Тонкие черные волосы обрамляли шелковистыми локонами круглое, в ямочках лицо; большие, полные огня, темные глаза с любопытством посматривали по сторонам из-под пушистых длинных ресниц. Нарядное, ладно сидевшее на нем платьице из красно-желтой шотландки выгодно подчеркивало его яркую внешность, а забавная уверенность манер, сквозь которую все же пробивалась робость, свидетельствовала о том, что он привык ко всеобщему вниманию и баловству.
– Эй ты, черномазый! – сказал мистер Шелби и, свистнув, бросил мальчику веточку изюма. – Лови!
Мальчуган со всех ног кинулся за подачкой под громкий смех своего хозяина.
– Поди сюда, черномазый, – скомандовал мистер Шелби.
Мальчик подбежал на зов, и хозяин погладил его по кудрявой голове и пощекотал ему подбородок.
– Ну-ка, покажи джентльмену, как ты умеешь петь и плясать.
Мальчик затянул звучным, чистым голоском капризную негритянскую мелодию, сопровождая ее забавными и очень ритмичными движениями рук, ног и всего тела.
– Браво! – крикнул Гейли, бросая ему дольку апельсина.
– А теперь покажи, как ходит дядюшка Каджо, когда у него разыграется ревматизм, – сказал мистер Шелби.
Гибкое тело мальчика мгновенно преобразилось: он сгорбился, скорчил унылую гримасу и, схватив хозяйскую трость, по-стариковски заковылял из угла в угол, то и дело сплевывая направо и налево.
Оба джентльмена громко рассмеялись.
– А теперь, черномазый, представь дедушку Элдера Робинса. Ну, как он поет псалмы?
Пухлая мордочка малыша вытянулась, и он с необычайной серьезностью затянул гнусавым голосом молитвенную мелодию.
– Браво, браво! Ну и молодец! – воскликнул Гейли. – Этот мальчишка далеко пойдет! А знаете что, – он вдруг хлопнул мистера Шелби по плечу, – подбросьте его мне в придачу к Тому – и дело с концом! Тогда все будет по справедливости.
При этих словах дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла молодая – лет двадцати пяти – квартеронка.
Достаточно было перевести взгляд с этой женщины на мальчика, чтобы признать в ней его мать. Те же большие темные глаза с длинными ресницами, тот же волнистый шелк черных кудрей. Румянец, проступавший на смуглом лице квартеронки, вспыхнул еще ярче, когда она увидела, с каким откровенным восхищением смотрит на нее незнакомец. Платье сидело на ней в обтяжку, выгодно подчеркивая изящество фигуры. Нежные руки и маленькие, узкие ступни тоже не укрылись от наметанного глаза работорговца, привыкшего сразу разбираться в тех или иных качествах женского товара.