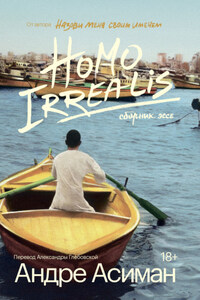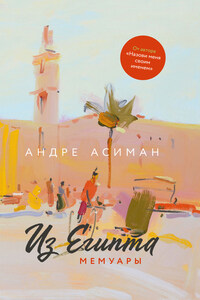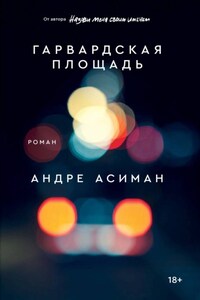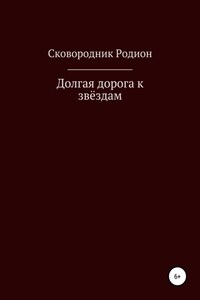Память все возвращает мне четыре фразы, написанные давным-давно. Я до сих пор не уверен, что понял их правильно. Часть души хочет в этом разобраться, другой страшно, что тем самым я вытяну из них смысл, который не воплотишь в словах, или – хуже того – что от самой попытки выведать этот смысл он спрячется еще дальше. Похоже, эти четыре фразы не хотят, чтобы я, их автор, знал, чтó я ими пытался сказать. Я облек их в слова, но их значение мне по-прежнему не принадлежит.
Я написал их, когда пытался понять, где корень той странной ностальгии, что колышется почти надо всем написанным мною. Поскольку родился я в Египте и меня, как и многих египетских евреев, оттуда изгнали – мне тогда было четырнадцать лет, – совершенно естественно, что корнями своими моя ностальгия уходит в Египет. Проблема в том, что подростком мне довелось жить в Египте, который на тот момент стал антисемитским полицейским государством, в результате я Египет возненавидел и с нетерпением ждал того часа, когда мы уедем и окажемся в Европе, лучше всего – во Франции, поскольку родной мой язык – французский и наша семья сохранила тесные связи с тем, что мы считали своей французской культурой. Однако парадоксальным образом друзья и знакомые, уже обосновавшиеся за границей, постоянно напоминали нам – тем, кому возможность покинуть Александрию должна была представиться только в ближайшем будущем, – что худшая составляющая жизни во Франции, Италии, Англии или Швейцарии заключается в следующем: все уехавшие из Египта страдают от невыносимых приступов ностальгии по месту рождения, которое когда-то было их родиной, но более ни в коей мере не являлось их домом. Те из нас, кто все еще жил в Александрии, ожидали, что будут мучиться от ностальгии, и если разговоры об этой предвкушаемой ностальгии велись достаточно часто, то, видимо, потому, что, осмысляя эту неизбежную ностальгию, мы как бы делали себе защитную прививку прежде, чем ностальгия набросится на нас в Европе. Мы упражнялись в ностальгии, высматривали места и вещи, которые обязательно будут напоминать нам о нашей утраченной Александрии. В определенном смысле мы заранее взращивали в себе ностальгию по месту, которое иные из нас – особенно те, что помоложе, – не слишком любили и мечтали покинуть.
Мы вели себя как те супруги, которые постоянно напоминают друг другу о неминуемом разводе, чтобы не слишком сильно удивиться, когда дело до него все-таки дойдет, а потом их будет мучить тоска по жизни, которая раньше обоим казалась невыносимой.
При этом мы были суеверны, поэтому упражнения в ностальгии становились одновременно и хитроумной разновидностью надежды на то, что перед грядущим изгнанием из Египта всех евреев нам будет дарована неожиданная отсрочка – нам надо лишь изобразить полную свою уверенность в том, что изгнание это неизбежно в самом ближайшем будущем, что мы его даже предвкушаем и готовы платить за него ностальгией, которая наверняка набросится на нас в Европе. Видимо, мы все, и молодые, и старые, побаивались Европы, и нам нужен был хотя бы еще один год, чтобы привыкнуть к мысли о столь заманчивом для нас исходе.
При этом, оказавшись во Франции, я очень быстро понял, что это не та дружелюбная и гостеприимная Франция, о которой я мечтал в Египте. И действительно, та Франция была всего лишь мифом, который позволял жить дальше после утраты Египта. Впрочем, три года спустя, когда я переехал из Франции в Соединенные Штаты, старая воображаемая ненастоящая Франция внезапно возродилась из пепла, и теперь, будучи американским гражданином и жителем Нью-Йорка, я оглядываюсь назад и ловлю себя на том, что вновь тоскую по Франции, которой никогда не существовало и существовать не могло, и все-таки она есть где-то там, на пути между Александрией, Парижем и Нью-Йорком, притом что я не смогу точно указать ее местонахождение, ибо она такового не имеет. Это Франция вымышленная, а вымыслы – будь то предчувствия, фантазии или воспоминания – не обязательно исчезают лишь потому, что не являются реальностью. Можно очень долго лелеять свои фантазии, тем более что фантазии, ставшие воспоминаниями, так же прочно укоренены в прошлом, как и события, действительно имевшие там место.
Единственная Александрия, которая мне, похоже, небезразлична, – это та Александрия, которую, как мне представляется, знали мой отец и мои деды. Город в тонах сепии, некогда бередивший мое воображение воспоминаниями, которые не могли быть моими, но увлекали меня вспять в те времена, когда город, который я должен был вот-вот утратить навеки, был домом для многих моих родных. Я тосковал по этой старой Александрии, существовавшей за два поколения до моего, – тосковал, зная, что она, скорее всего, никогда не была такой, какой я ее себе воображал, тогда как та Александрия, которую я знал, была – ну, просто реальной. Когда бы доплыть из нашего часового пояса к тому другому берегу и вернуть себе эту Александрию, некогда вроде бы существовавшую.