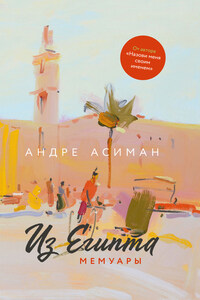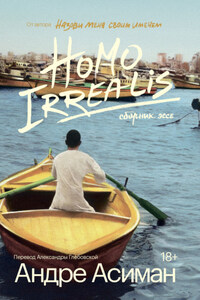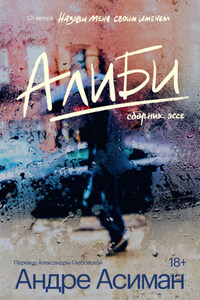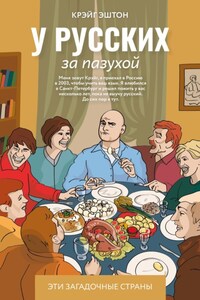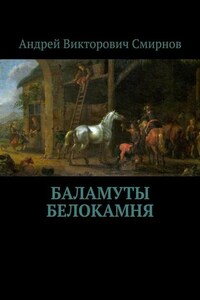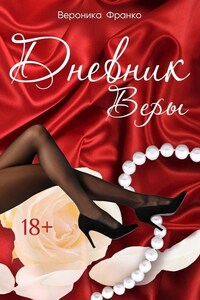I. Солдат, торговец, шпион и плут
– Siamo o non siamo? Те ли мы, кем себя считаем? – с гордостью произнес мой двоюродный дедушка Вили, когда мы с ним уселись наконец тем летним вечером в саду, смотревшем на пространное его поместье в Суррее. – Полюбуйся, – он указал на раскинувшийся перед нами зеленый простор. – Ну разве не чудесно? – спросил он так, словно лично сотворил саму идею вечерней прогулки по английской сельской местности. – Перед закатом, сразу после вечернего чая, всегда приходит чувство полноты, едва ли не блаженства. Ведь я получил все, чего хотел. Не так уж и плохо на девятом-то десятке. – Лицо его светилось высокомерным самодовольством.
Я пытался заговорить с ним об Александрии, о минувших временах и утраченных мирах, о конце – когда настал конец, – о мосье* Коста, Монтефельтро и Альдо Коне, о Лотте, тетушке Флоре и жизнях, что теперь были так далеки. Он меня оборвал и отмахнулся пренебрежительно, точно отгоняя дурной запах.
– Всё это чушь собачья. Я живу настоящим, – сказал дедушка Вили, раздосадованный моей ностальгией. – Siamo o non siamo? – повторил он, встал, чтобы размять мышцы, и указал мне на первую вечернюю сову.
Никогда нельзя было в точности сказать, что значит эта фраза и кем именно мы должны быть. Но для всей семьи, в том числе и для тех, кто уже не знает ни слова по-итальянски, в этом обрубленном вопросе по сей день заключается вся суть того заносчивого, отчаянно-смелого, самоуверенного хвастуна-солдата, который во время Великой войны выполз из итальянского окопа и, укрывшись за рядами деревьев, цепко сжимая в руках винтовку, выкосил бы всю Австро-Венгерскую империю, если бы у него не кончились патроны. Фраза эта выражала лихой апломб сержанта-инструктора среди молокососов, которых нужно каждый день гонять в хвост и в гриву. «Мужчины мы или не мужчины?» «Есть от нас хоть какой-то прок или мы только небо коптим?» Таким вот образом дедушка Вили храбрился, демонстрировал равнодушие к поражениям, готовность возродиться из пепла и счесть это победой. К слову, именно так он играл с судьбой, неизменно требовал большего, приписывал себе заслуги абсолютно за все достижения, в том числе и за непредвиденный успех заведомо провальных своих планов. Избыточное везение он принимал за прозорливость, подобно тому как заурядную изворотливость уличного сорванца ошибочно считал отвагой. Впрочем, задора ему хватало, он сознавал это и этим бахвалился.
Несмотря на поражение, которое итальянцы потерпели в 1917 году в битве при Капоретто, дедушка Вили всегда гордился тем, что служил в итальянской армии, и этим тоже неизменно хвастался, причем с сочным флорентийским выговором, усвоенным в итальянской иезуитской школе в Константинополе. Подобно большинству молодых евреев, родившихся в Турции в конце девятнадцатого столетия, Вили презирал все, что связано с османской культурой, обожал Запад и в конце концов стал «итальянцем» примерно таким же образом, как и многие другие турецкие евреи: объявил, что предки его родом из Ливорно, портового городка неподалеку от Пизы, где в шестнадцатом веке осели евреи, бежавшие из Испании. Вдобавок в Ливорно весьма кстати обнаружился дальний родственник-итальянец с испанской фамилией Пардо-Рокес (Вили сам был наполовину Пардо-Рокес), после чего и все его двоюродные братья и сестры в Турции тоже стали «итальянцами». Нужно ли говорить, что все они были ярые националисты и монархисты.
Однажды некий грек из Александрии заявил Вили, что итальянская армия никогда не отличалась доблестью, и дедушка сразу же вызвал обидчика на дуэль (грек еще добавил, что никакие итальянские медали и прочие побрякушки не изменят того факта, что Вили – турецкий жулик, к тому же еврей). Это привело дедушку в совершеннейшую ярость, и не потому, что ему указали на еврейское происхождение – он, в общем, его и не скрывал: Вили терпеть не мог намеков на то, что многие евреи превратились в итальянцев посредством сомнительных махинаций. Оружие их секунданты выбрали настолько устаревшее, что ни один из дуэлянтов понятия не имел, как с ним обращаться. В результате никто не пострадал, противники принесли друг другу извинения, один из них даже посмеялся и, дабы укрепить дух товарищества, Вили предложил посидеть в тихом ресторанчике на берегу моря, где в этот ясный июньский день в Александрии они отобедали как нельзя лучше. Когда принесли счет, грек с итальянцем заспорили, кому платить; препирательствам их не было бы конца, поскольку каждый настаивал, что для него это честь и удовольствие, если бы дедушка Вили, подобно чародею, решившему прибегнуть к волшебству там, где прочие средства оказались бессильны, не произнес свою коронную фразу, которая в данном случае означала: «Порядочный я человек или нет?» И грек, как более великодушный, уступил.
Дедушка Вили прекрасно умел внушить смутное, однако же безошибочное ощущение, будто он принадлежит к старинному роду, то есть происхождения столь древнего и знатного, что оно затмевает всякие мелочные подробности вроде места рождения, национальности и религии. А родовитость неминуемо подразумевала и богатство – всегда с туманным намеком на то, что оно, увы, хранится не здесь: скажем, вложено в земельные активы где-то за границей, хотя никакой земли у дедушкиного семейства отродясь не водилось, разве что в цветочных горшках. Однако же знатное происхождение открывало ему кредит. А этого-то Вили и было нужно, поскольку именно так и он сам, и прочие мужчины семьи зарабатывали, заимствовали, теряли деньги и женились на них же: в кредит.
Родовитость шла Вили – и вовсе не потому, что он действительно принадлежал к старинному роду, и не потому, что притворялся его потомком, и даже не потому, что на нее намекал присущий ему лоск разорившегося аристократа. В его случае главную роль играла убежденность в том, что он лучше по праву рождения. Ему была свойственна сановитая манера богача, прохладная полуулыбка, которая сразу же теплела в компании равных. Аристократизм его сказывался в привычке к бережливости, политических убеждениях, кутежах; чья-то дурная осанка раздражала дедушку Вили сильнее дурного вкуса, дурной вкус – сильнее жестокости, а неумение вести себя за столом – куда больше привычки плохо питаться. Ко всему прочему он презирал то, что называл «атавизмами», выдававшими евреев, особенно если те пытались притвориться гоями. Он смеялся над родственниками и свойственниками, которые выглядели типичными евреями, – не потому, что сам выглядел как-то иначе или ненавидел евреев, но потому лишь, что знал, как сильно их ненавидят прочие. «Из-за таких, как вы, не любят таких, как мы». И если какой-нибудь приметливый еврей, гордившийся своим происхождением, осмеливался его одернуть, Вили выплевывал ответ, точно фруктовую косточку, которую перекатывал во рту сорок лет: «И чем же именно ты гордишься? В конце концов, мы все торговцы».