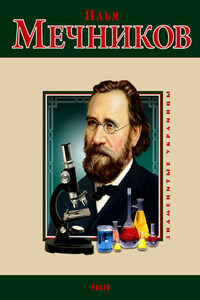Светлой памяти Юрия Синелобова, так рано покинувшего нас.
Я почувствовал её спиной. Лёгкое беспокойство. Присутствие. Словно менялось атмосферное давление. Словно скапливалось электричество. Созревала гроза. Внезапно наступила тишина – до звона в ушах.
Там кто-то был. Не шевелился. Ничего не выражал и не чувствовал. Свидетельствовал. Бестелесно обозревал.
Кто-то коснулся ауры – аурой. Моего невидимого излучения – своим. Я содрогнулся.
Кто-то пронзал моё естество. Кто-то влиял на меня. Кто-то подцепливал на крючок одним ещё безымянным, бесстрастным присутствием.
Я ещё не знал, кто это, что за существо, – а уже всё было решено. Кто-то владел мною уже одним фактом своего существования.
…Потом был запах. Тонкой горечи. Лунный запах. Он волновал, как полнолуние, и был также нечестив. Он рождал смутное безумие. Он проникал в тебя, врастал в плоть, разворачивал, комкал и обуревал её, как ему угодно. Запах невозможно было отторгнуть, а можно было лишь покорно превращаться по его приказу в то, во что он пожелал.
Превращаться в Несебя. В иное. В чужого.
В чудовище.
Наконец-то взгляд.
Глаза что-то источали. Клубящееся. Дурманящее. Неопределимое.
Взгляд пульсировал, как сердце. Радужка дрожала. Белки блестели невероятно. Глаза и состояли из одного блеска.
Светильник, сияющий внутрь себя. И взорвавшийся от переполнившего его света.
Брызги сияния пополам с осколками светильни полетели мне в глаза, выедая и выжигая до дна сначала их, а потом протекли прямо в мозг и уничтожили его беспощадно и тщательно.
* * *
На куче мусора зияла растерзанная плоть.
Пейзажик в духе Сталкера: тут тебе помойка, поросшая лопухами, налево гаражи ржавые, на бункеры времён третьей мировой смахивают – и всё это посреди необозримой лужи. Три километра на восемь. Своя китобойная флотилия. Полный комплект болезнетворных бактерий. Заповедник.
– «На трупе обнаружены множественные ранения», – бубнил составитель протокола. – Слышь, по-моему, это когти и зубы крупного хищного зверя.
Его речитатив сплетался в выверенный дуэт с подвываньями свидетельницы, толстой немытой, обвешанной соплями, в розовом платье.
Бомжиха, взалкавшая нежности.
– Волк? Рысь? Что за хрень! Откуда здесь зверю взяться? – надрывался Димон Колымагин, Иванушка-дурачок из поколения пепси. Нянькайся с ним теперь.
– Городишко впритык к многомиллионному мегаполису. И – волки?
– Крысы-мутанты! – отгавкнулся я.
– Не, и ты глянь, как клёво разделано. Прям экспонат в анатомичку. Это что ж за волки такие шибко культурные?
– Димон, крест на тебе есть? Нет криминала – айда до дому. Вызовем санитарную службу – или кого там – и пущай они на медведей сафари устраивают. Развели пампасы.
– Да что ж, теперь не доищешься, кто отстрелом заниматься должен. Здесь же ничейная зона, Землицын…
– Устами младенца, Колымагин, то есть твоими… Ничейная она. И – зона! Уходим. Захлопывай лавочку, Колымагин. Хватит трупяшниками наслаждаться.
Толпа любопытных по периметру места происшествия заёрзала. Из неё снова выступила Она.
Я только теперь смог её рассмотреть.
* * *
«Трясовея… Огневея… Ледовея…»
Что это в ушах зудит?..
Чокнутая. Как есть блажная. Бродяжка неприкаянная. Сама в рванье. Руки в цыпках. Рот обмётан. Сутулая. Неуклюжая. Косолапая.
Только в уши кто-то шепчет:
– «Ни руды, ни крови, ни щепоты, ни ломоты…»
Всякая дрянь мерещится.
…И зачем я за ней пошёл?
В такую не то что влюбиться, в глухую полночь увидишь – со страху откинешься.
– «Полуночница…веред… умоюсь ни бело, ни черно, утрусь ни сухо, ни мокро, умываюсь красным молоком, утираюсь маковым цветом…»
Чур меня!
Заподозрил я её, что ль?
Да доходяге этой мухи не прихлопнуть. А покойничек с выеденными внутренностями…
Ну, стоит, ну, смотрит. Мало ль, кто раззявился.
Нет, ну вот зачем попёр?
То ли обрывки песен. То ли глюки. То ли просто шорохи. Кто-то прямо из пустоты, обозначась одной своей тенью, провёл рукой по моей щеке. Я пихнул пустоту – и ладони оказались в чём-то липком.
И запричитали кликушески, завздыхали, заплакали уже хором. И не в уши – прямо за лобной костью.
– «Так меня бы ты дожидался, не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в обыден, ни в полдень, ни при частых звёздах, ни при буйных ветрах…»
Сгинь, пропади, окаянная сила!
А не я ли сам себе всё нашёптываю, сам себя завораживаю?..
Глаза у неё были, как ирисы. Синие с золотым. Глаза-цветы, но – волчьи. Я в зоопарке такие видел. Совершенно осмысленные, но смотрят на тебя, как на кусок мяса.
Глаза мерцали, как болотные огни. Болотная нимфа…
Я с ней заговорил с ухваткой откровенного съёмщика, подыскивающего одноразовый перепихон.
Слепящий плащ напряжения, пышным облаком окутывающий её, вдохновенно и полноправно реющий в пространстве, стремительно и смертоносно взвился в гневе, как капюшон у кобры, но тут же опал, когда она настороженно, пожалуй, даже с застенчивостью существа, стесняющегося своей исключительности, чуть ли не с робостью разглядывала меня.
Меня не оставляло ощущенье, что она выслеживает меня из глубины себя, как охотник из засады.
Она втянула в себя это напряжение, спрятала, как прячет когти мурлыкающий хищник, старающийся точнее прицелиться в горло жертве.
И когда я пролаял ей про чашку кофе у меня дома – ну, бес попутал, право слово! – знаете, что она мне ответила? Эта побирушка облезлая, которая и чистых простынь-то никогда, поди, не видела?
Со всей высокомерностью божества, которому я недостоин поклоняться:
– Мне это – не угодно!
* * *
Я следил за этой женщиной. Я вынюхивал её след. Я подстерегал её тень. Я таился в подворотнях, простенках, углублениях и нишах. Так подбираются к врагу.
Это она была добычей? Кто знает, идёт ли охотник за дичью – или дичь ведёт охотника на привязи, с которой невозможно сорваться.
Это я её не выпускал? – Она меня освободить не хотела.
Я влёкся за ней, дрожа от азарта, через весь город.
Он слагал пластины крыш, как крылья дельтаплана каменного века. Дольмен, на котором летают.
Город был, как воронка взрыва. След вселенской катастрофы, превращённый в волчью яму.
Дорога шла через сплетение полыни и колючей проволоки, мимо сточных канав, вонючих отстойников, ржавых шлагбаумов и заброшенных узкоколеек.
Упразднённая сторожевая вышка при недействующей пожарной части. С серьгой в ухе – обрезком рельса, в который били тревогу. С обрубком отпиленной под корень лестницы в вышине.
Все заводы и фабрики стояли. Все контрольно-пропускные пункты обезлюдели. Все механизмы вышли из строя.
В одном месте только из-за забора доносился визг циркулярки да перед воротами с корявыми звёздами скулила шелудивая собака. Провода оборваны упавшим деревом. За повалившейся оградой – изношенные тренировочные штаны с дырявыми носками на верёвке.