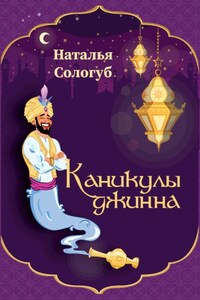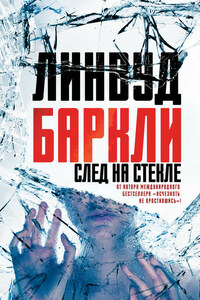«Гадательное стекло» русской сказки
Вступая в сказочный мир, мы словно возвращаемся в «те баснословные года» (Тютчев), когда сказки нам рассказывали старшие. Но если мы ищем в них только погасшего душевного тепла, то уже на пороге нас может постигнуть разочарование. Сказка учит, развлекает, веселит, пугает, баламутит воображение, но не всегда греет или старается приласкать. В младенчестве сказки приходят к нам уже обработанными, обструганными, без сучков и шероховатостей, грозящих занозами. Когда-то они предназначались вовсе не детям, но взрослым, детства еще не утратившим. Или желавшим к нему вернувшимся. Сказка стирала границы между взрослостью и детством, обыденным и «баснословным».
Когда «сказка сказывается», она не только что-то рассказывает. Прежде всего она создает внутреннее пространство своего «сказа», собирая круг посвященных слушателей. Это область чудесного, в которую, как в детство, хотят окунуться. Оттого, как говорят исследователи, она никогда не исполняется лишь для себя. «Если сказочник рассказывает сказку в одиночестве, – говорит академик Д. С. Лихачев, – то он, очевидно, воображает все же перед собой слушателей. Его рассказ есть в известной степени и игра, но в отличие от игры лирической песни – игра не для себя, а для других. Лирическая песня поется о настоящем, сказка же рассказывает о прошлом, о том, что было когда-то и где-то»>1.
Такое прошлое не уходит, но как будто затаивается в нас. Оно сохраняется в общей или общинной памяти. Сказка – как непреходящее воспоминание. Причем воспоминание о том, чего не было и быть не могло в земном текущем времени. Оно приходит из иной, необыкновенной реальности. Реальность эта может быть бытовой, но может быть и священной, когда повествует о делах Божиих в мире. Так Голубиная книга (первая из «сказов» нашего сборника), падает прямо с неба («со небес та книга повыпадала») и рассказывает о начале творения. «Да с начала века животленного сотворил Бог небо со землею, сотворил Бог Адама со Евою…». Священная история, хранящая в себе всю премудрость и все тайны, о которых мы знаем из Библии, переходит в повествование, когда эти тайны не просто сообщаются, [1] но поются. Пение, когда-то звучавшее и словно растворившееся в сказке – не только способ передачи особого знания, но суть его. Дела Божии нельзя передать простым пересказом, но поющим соучастием в них. В Голубиной книге 40 царей, 40 королей с королевичами и 40 калик и начинают вопрошать царя Давыда Евсеевича. Они задают ему «детские» вопросы, ибо только через них может сказаться священная тайна творения:
От чего зачался наш белой свет?
От чего зачалося солнце праведно?
От чего зачался светел месяц?
От чего зачалася заря утрення?
От чего зачалася и вечерняя?
От чего зачалася темная ночь?
От чего зачалися часты звезды?
Объяснение Давыда Евсеевича достойно псалма его царственного прототипа:
А и белой свет – от лица Божья,
Солнцо праведно – от очей его,
Светел месяц – от темечка,
Темная ночь – от затылечка,
Заря утрення и вечерняя – от бровей Божьих,
Часты звезды – от кудрей Божьих!
И вот Голубиная книга словно выдает нам секрет: когда Бог создает мир, Он погружает в него лицо. Свет, солнце, месяц, ночь, заря становятся Его иконами. И о делах Его вещает свет. Сказочник превращает в песенный сказ неисчерпаемую тайну творения, которая здесь, в какой-то глубине народного сознания сливается с тайной воплощения. Сказка не спорит с Библией, но так слышит ее, так перепевает. И если она уходит в незапамятное, хоть и близкое прошлое, то в песне она обращается к непреходящему, к настоящему. Строгая правда веры становится красотой чудесного, которое верит по-своему, производит мир от Бога и наполняет мир Им, образ Которого напоминает удивительного великана. Голубиная книга, когда она воспринималась по-детски и непосредственно, была дозволена, а когда к ней подошли по-взрослому, воспитательно, репрессивно, то запретили как языческую. Потом она стала почтенным фольклором и предметом ученого исследования. А название ее, как говорят источники, идет от слова «глубинная», раскрывающая глуби мудрости и мироздания, но интуиция языка свела воедино глубину с голубицей, найдя в них неожиданное родство: глубь подлинного, сущностного знания о мире не горька, а ласкова, кротка сердцем, нежна цветом, подобна голубизне неба, голубице, символе Духа Святого. Вероятно, сказители этой книги не очень отличали библейскую веру от своей, домашней, певческой, сохранившей какие-то пласты двоеверия, залежи язычества, но уже пронизанного изнутри светом Христовым, делая ее тем самым более понятной или, скажем, в народном понимании, более правдивой.
Правда в этих сказках своя, чаще всего она сливается с порывом милосердия, но иногда и спорит с ним. Всего важнее победа над злом. Правда всегда непременно побеждает Кривду, гордый богач наказывается разбойниками, своими же крестьянами, и в конце концов женой, которая приказывает зарыть его живым в землю, Марко богатый – а богатство в сказке дается только в награду за честность, храбрость и бескорыстие, у кого этого нет, оно отнимается, – остается вечным перевозчиком у Змея, жадная старуха, прообраз ненасытной жены в Сказке о рыбаке и рыбке, вместе с мужем превращается в медведицу и медведя. Даже Богородица Мария сурово наказывает провинившегося. Правда Божия в сознании сказочников доказывает себя, как правило, силой, противостающей явному злу. Однако для победы правды всегда требуется вмешательство чудесного.
Чудесное живет и в сказке и в мифе, хотя между ними и есть различие. «Сказка знает такой мир, где все шиворот-навыворот – страну-наизнанку: там телега тащит осла, там кубы катятся, там носят воду решетом, варят уху из еще не пойманной рыбы и шьют одежды из шкур еще не убитых зверей. Но чудеса страны-наизнанку – сплошь обнаженный сарказм. Мифу же для создания чудесных существ и предметов, для совершения чудесных действий не нужно прибегать к сарказму, к скрытой карикатуре и иронии. Налицо полная серьезность[2]. Юмористический, улыбчивый задний фон очень существенен в русской сказке, он смягчает многие жестокости, ибо сказка отнюдь не сентиментальна, но все, что там происходит – всерьез и не очень. В сказке не живут, как живут в мифе, скорее ею расцвечивают жизнь.