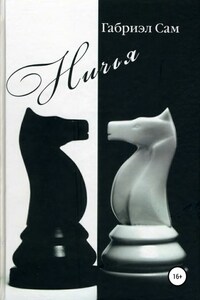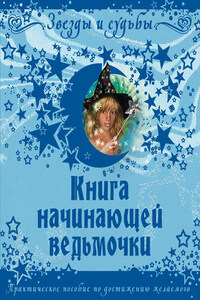Колоссальный маховик небывалого в истории международного судебного процесса набирал ход, раскручивался все стремительнее.
Он работал со скрипом, ибо был чрезвычайно громоздок и наскоро сконструирован, к тому же у него имелась масса противников, утверждавших, что юридически чистый и непредвзятый процесс в такой ситуации невозможен. И все-таки остановить его было уже практически невозможно – весь мир требовал суда. И даже обозначившиеся серьезные противоречия в подходах к функционированию трибунала двух главных действующих лиц – русских и американцев – не могли похоронить начатое дело.
Советские следователи, наконец, добившиеся согласия американцев на самостоятельные допросы обвиняемых – до этого их допрашивали только американские следователи, в таком же положении были и другие делегации, – занялись «живой» работой. Главный обвинитель от СССР Руденко лично утвердил опросные листы по которым следовало непременно допрашивать обвиняемых.
Кроме того, именно сейчас было очень важно понять, как будут вести себя непосредственно во время процесса фашистские бонзы, чего от них ждать, будут ли они действовать согласованно или каждый будет бороться только за себя и валить вину на других. Именно этим занимался Ребров, участвовавший по приказу генерала Филина практически во всех допросах в роли следователя-ассистента.
Тревожное напряжение в следственной группе, да и во всем аппарате главного обвинителя от СССР после совещания в Москве, где благодаря генералу Филину донос полковника Косачева остался без последствий, спало. Обстановка была вполне рабочей. Однако многомудрый Филин предупредил Реброва, что Косачев своего поражения не простит, и наверняка объектом его ненависти станут именно они – Филин и Ребров…
«Теперь он займется нами, так что не подставляйся, – предупредил Филин. – Намек понял?» Понять было нетрудно – речь шла об Ирине.
После того, что произошло у княгини Трубецкой, Денис и Ирина виделись мало, урывками. И не только потому, что было трудно встречаться без посторонних глаз, что оба оказались загружены навалившимися со всех сторон делами, а и потому, что оба понимали: случившееся у княгини Трубецкой было рубежом, который то ли прекращал их отношения, то ли делал уже совершенно иными. Нужно было каждому что-то решать для себя, причем необыкновенно важное, от чего зависела вся дальнейшая жизнь. И от этой нерешенности любая встреча, даже взгляд казались или последними, прощальными, или обещанием будущего, пусть не ведомого, но от которого нельзя отказаться.
Именно обо всей этой неопределенности, которая неизвестно чем разрешится, неотрывно думал Ребров в кабинете для допросов, где они с Александровым ждали, когда приведут Иоахима фон Риббентропа, бывшего министра иностранных дел Третьего рейха. Рядом с Александровым сидела новая переводчица, на днях прибывшая из Москвы, – очень красивая, ухоженная, модно одетая женщина лет тридцати.
Когда ввели Риббентропа, поразил его внешний вид – на нем, еще недавно щеголявшем в ловко сидящих смокингах и фраках или затянутом в форму эсэсовского генерала, была непонятного цвета жеваная рубашка с обтрепанным воротом, поверх которой болтался бесформенный коричневый пиджак. На ногах грубые башмаки без шнурков, которые им не разрешала иметь американская охрана. Худое лицо Риббентропа с запавшими щеками заросло пегой щетиной. Усевшись на стул посреди комнаты, этот человек, не так давно диктовавший волю Германии и Гитлера целым государствам, весь угодливо подался вперед, изображая абсолютную готовность отвечать на все вопросы.
В кабинете, как это было заведено у американцев, были посторонние люди, которые вели себя так, словно попали на театральное представление. Вслед за Риббентропом неожиданно появился не кто иной, как Крафт. Он устроился на стуле в углу и весело подмигнул Реброву: мол, давно не виделись…
– О, я всегда был верным другом Советского Союза, – преданно глядя в глаза Александрову, заговорил Риббентроп. – Чтобы добиться заключения Пакта о ненападении с Россией мне пришлось преодолеть большое предубеждение, существовавшее в руководящих кругах Германии. Очень большое! – Риббентроп для убедительности поднял указательный палец.