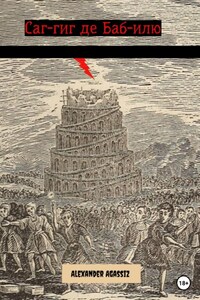«Произошло это от обычая египтян, которые, по-видимому, впервые начали заниматься философией и все свои представления о божественном вкладывали в иероглифы и некие знаки по подобию».[1]
В прежние времена, каждый раз, собираясь съездить в Петергоф, я ощущала непонятное томление, погружение в трепетное состояние, сопровождаемое нетерпеливым ожиданием момента, когда, войдя в ворота Верхнего парка, произнесу, раскрываясь, словно чуду, навстречу: «Здравствуй, вот и я!» Так повторялось из года в год, и мне ни разу не приходил в голову вопрос – «почему так происходит?», пока однажды, делясь с кем-то впечатлением, которое производит на меня Петергофский парк, я вдруг, неожиданно сказала: «А ведь внутри садово-паркового ансамбля в Петергофе с человеком происходит алхимический процесс, да и сам парк сконструирован, как алхимическая реторта!» Эта фраза мгновенно сделала понятным, почему Петергоф оказывает такое благотворное влияние, не только на физическое самочувствие, но и на психику человека. Если бы в сезон фонтанов в парке находилось поменьше посетителей на квадратный метр площади, лечебный эффект проявлялся бы еще явственнее. К тому же, в последние годы стало заметно, что целебное воздействие ансамбля возрастает пропорционально расширению восстановительных и реставрационных работ, возвращающих Петергофу статус сада раннего Нового времени, когда сад воспринимался «ни чем иным как музеем природы и искусства под открытым небом, “кабинетом природы и искусства” или “театром чудес” природы»,[2] а это значит, что парк посредством этих мероприятий все больше и больше раскрывается навстречу посетителю, расширяя свои возможности поделиться с ним своей внутренней силой.
По мере работы над этой темой, чем больше я убеждалась в справедливости моих «догадок», тем больше мне хотелось разобраться в причине происходящего, в механизме воздействия парка на посетителя. Я всегда была убеждена, что рукотворные ландшафты, подобные Петергофу, воздействуют на человека не только посредством своих конструктивных особенностей, создающих «дышащие формы» со «слабым мерцанием».[3] В феномене их воздействия есть еще что-то кроме прямых природных факторов или художественного замысла ландшафтного архитектора. Несомненно, что первую скрипку здесь ведет мировоззрение создателей, заключенное в архитектурно-ландшафтный комплекс, поскольку «формообразование – это выражение идей, принципов, символов, знаков, которые складываются в комплекс. С точки зрения семиотики стиль эпохи – парадигма сознания, которая включает в себя отдельные духовные концепты»,[4] и в этом смысле важно выяснить назначение предпринятого сооружения, которое определяет его значение, те конкретные актуальные обстоятельства, породившие потребность в строительстве Петергофа таким, каков он есть.
Занимаясь изучением «Философских обителей» Фулканелли[5] к тому времени уже достаточно продолжительное время, я, постепенно, все глубже проникалась мыслью, что моя гипотеза о том, что садово-парковый комплекс Петергофа схематически представляет собой алхимическую реторту, а его символическая программа, следовательно, описывает алхимический процесс, может иметь под собой основание. Очевидно, что садово-парковое искусство обладает собственным языком выражения, со своим словарем, и подчиняется особой грамматике – конструкционным правилам, и самое главное, предполагает вполне независимую от конкретного пользователя «прагматику» своего функционирования. В Петергофе все это в один голос указывало на алхимический источник всего комплекса.
И вот в один прекрасный теплый осенний день, вооружившись полевым биноклем, я отправилась в Петергофский парк, поставив себе задачу рассмотреть, во всех подробностях, детали фонтанов и принять окончательное решение относительно своих догадок. Не даром О. Шпенглер писал, что «барочный парк – это парк позднего времени года, близкого конца, опадающих листьев».[6] Фонтаны, в окружении золотой и пламенеющей листвы на фоне ярко-голубого неба, рассматриваемые в бинокль, меня просто «оглушили». Они заговорили со мной совершенно на другом языке, а детали фонтана «Нептун» Верхнего парка окончательно и бесповоротно убедили меня, что моя гипотеза не беспочвенна, и вернувшись домой, я принялась за герменевтическую работу, цель которой заключалась в исследовании Петергофского садово-парковый ансамбля в его непосредственных связях с эпохой раннего Нового времени, сквозь призму парадигмы его мировоззрения, пропитанного идеями герметизма. Невзирая на принятый подход к изображению, как к имеющему менее ясное значение нежели слово и отсюда – различные токования, следует наложить его на контекст эпохи, что очевидным образом прояснит ситуацию и даст почти однозначную его интерпретацию. В таком случае иконография[7] сливается с иероглификой[8]и превращается в инструмент исторической реконструкции.
Для проверки гипотезы и доказательства существования алхимического кода в построении Петергофского садово-паркового ансамбля, прежде всего следовало обратиться к интересам и пристрастиям его вдохновителя и первого строителя – императора Петра Великого, ибо смысл творения можно понять только исходя из истории его создания, источников его вдохновения и философии, что возможно только через осмысление его деятельности как творца. Для этой процедуры необходимо выяснить – насколько глубоко он мог находиться в русле герметических настроений и веяний своего времени, чтобы задумать и осуществить садово-парковый ансамбль, отражающий процесс Великого Делания. Особо отмечу, что для появления подобной идеи, а затем и воплощения ее в парковом ансамбле совершенно не имеет значения тот факт, был ли первый российский император масоном, или нет.[9] Можно даже вслед за А. Н. Пыпиным, и другими авторами, боящимися как заразы «масонской чумы» в отношении российских императоров и членов их семей, игнорировать «масонские предания», приписывающее введение масонства в России Петру, иронизируя: «Он, будто бы, принят был в масонство самим Кристофером Вреном (или Реном, Wren), знаменитым основателем нового английского масонства; первая ложа существовала, будто бы в России еще в конце XVII-го.
А так же: Zitser E. A Mason-Tsar? Freemasonry and Fraternalism at the Court of Peter the Great. Paper presented at the Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism, University of Shefeld, UK, 25 March 2009. столетия, мастером стула в ней был Лефорт, первым надзирателем Гордон, а вторым сам Петр Великой».[10] Важно здесь то, что Петр Великий, и это совершенно очевидно, как один из образованнейших людей своего времени, разделял его дух и взгляды, которые, хотим мы этого или нет, были пропитаны герметической философией и идеями розенкрейцеровского служения, в том числе, и в разработке и осуществлении архитектурных и ландшафтных идей. Именно эти тенденции раннего Нового времени наглядно демонстрируют, при должном внимании к деталям, Петергофский садово-парковый ансамбль.