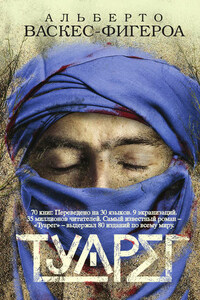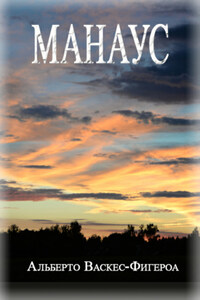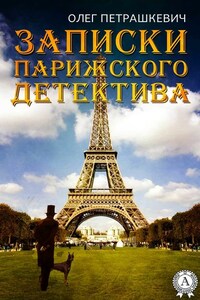Стая красных ибисов вспорхнула с дерева.
По зеленому покрову сельвы словно заскользили языки пламени.
Ибисы устремились на север.
Навстречу им летели грузные белые цапли, и в какое-то мгновение пути их пересеклись.
Красные ибисы пролетели выше, длинноногие белые цапли – под ними, почти задевая кроны деревьев.
Зеленый, красный, белый, а добавить сюда где желтые, где фиолетовые пятна распустившихся орхидей, – и все вместе сливается в пестрый ковер под голубыми небесами. А там, в вышине, в этот час ни облачка.
Ни тени ястреба.
Или орла.
Даже самуро[1].
Тишь да гладь.
Покой и в небесах над сельвой, и на поверхности широкой реки, которая течет себе, извиваясь, не ведая иных забот, кроме как отражать солнечные лучи, посылая их на пролетающих над водой цапель и ибисов.
Царство света, мира и цвета в ста метрах от земли.
А ниже, где широкие листья деревьев начинают просеивать яркий свет, льющийся сверху, и каждому лучу приходится пробиваться самостоятельно, в тщетной попытке коснуться земли, картина совершенно меняется: свет с каждым метром уступает место мраку, цвет – оттенкам тускло– и густо-серого, а покой обманчив, ибо повсюду таятся смерть и насилие.
Бурая, цвета гниющих листьев и остатков плодов, топь, в которую стараниями бесчисленных дождей превратилась почва джунглей, на какое-то мгновение расцветилась блестящими красными и черными кольцами: это бесшумно проползла ядовитая коралловая змея – и тут же исчезла в трухлявом нутре уже много лет как мертвого дерева.
Тукан следил за ней, почти не поворачивая головы.
Рыжебородый ревун[2] в тревоге метался на ветке.
Ленивец[3] решил-таки передвинуть на несколько миллиметров свои мощные когти, чтобы, зацепившись за ветку, продолжить свое неспешное восхождение к далекой кроне арагуанея[4].
Приползли тучи.
И зарядил дождь.
И зазвучала вековечная песня леса, неутомимое «бум-бум» миллионов крупных капель воды, барабанящих по листу. Скатившись по нему, они падали в пустоту, ударялись о следующий лист, вновь скатывались и устремлялись вниз – и так на протяжении пятидесяти или шестидесяти метров: их путь к заболоченной земле мог прерываться до бесконечности.
Каждый удар сам по себе был едва слышен, зато их оркестр – самый большой на свете – оглушал лесных обитателей.
А тут еще гром.
И удар молнии.
И треск рухнувшего исполина, который целое столетие тянулся к небу, а она свалила его в мгновение ока.
Вода.
И снова вода.
Воды все больше и больше.
В реке.
В месиве под ногами.
В воздухе.
Вода пропитала кожу, все тело и кости.
Шлепанье босых ног по грязи, хруст веток, хлопанье крыльев всполошенных попугаев – и вот из-за толстого самана[5] появился, тяжело дыша, промокший человек. Пробормотав что-то сквозь зубы, он остановился передохнуть.
Тощий, кожа да кости, воспаленные, глубоко запавшие глаза, ноги в загноившихся язвах – ну прямо живые мощи, прикрытые лохмотьями. Того и гляди упадет лицом в грязь и испустит дух прямо здесь, в самой чаще леса.
Но он не упал.
Он лишь прислонился спиной к саману и задрал голову, чтобы сориентироваться, и это в сельве, где взглядом зацепиться просто не за что.
Возьми любое дерево: оно ничуть не приметнее соседнего.
Любая ветка похожа на тысячи других.
Любой лист ничем не выделяется среди миллионов подобных.
Любой просвет – копия предыдущего, а следующий – такой же.
Сельва куда однообразнее пустыни и даже моря.
От этого однообразия голова идет кругом, и впору сойти с ума.
Однообразие сельвы доконало многих; змеи, пауки или ягуары и то сгубили меньше народа.
Но этот доходяга, эта тень, жалкое подобие человека, каким он был когда-то очень давно, неспешно обвел вокруг цепким взглядом (такой появляется у тех, кто не один год провел в сельве), а затем взмахнул длинным тесаком, который столько раз точили, что от широкого лезвия осталась лишь узкая полоска, сделал размашистую засечку на уровне головы.
И пошел себе дальше.
Пошел без суеты и спешки, усталой походкой человека, который уже бог весть сколько прошагал; и его упорство в конце концов было вознаграждено: спустя полчаса зеленая стена вдруг раздвинулась, словно пышный занавес гигантского театра, и взору путника открылась великолепная картина, какую в жизни не видывал никто из белых людей.
Разинув рот он опустился на толстую ветку, несколько раз провел рукой по блестящей лысине, недоверчиво поморгал и что-то невнятно пробормотал, а потом чуть ли не час просидел как зачарованный: все никак не мог поверить, что это не наваждение.
А зрелище, представшее его взору, на самом деле превосходило самый что ни на есть невероятный сон.
– Так это правда! – наконец проговорил он себе под нос. – Так и есть. Мать всех рек течет с неба.
Немного погодя он поднялся и пошел обратно.
На этот раз он действительно заспешил, поскольку тени сельвы стали сгущаться, торопя приход ночи.
Под конец человек уже двигался с трудом: падая и поднимаясь, отдуваясь и чертыхаясь, он уже почти в темноте добрался до берега речушки и рухнул рядом с утлой пирогой из древесины чонты[6]. Его товарищ – совершенно изможденного вида, лежавший на носу лодки, – еле слышно, словно на последнем издыхании, спросил:
– Что с тобой? Ты как самого черта увидел.
Лысый, видно, запыхался, и ему потребовалось какое-то время, чтобы отдышаться. Наконец он хрипло проговорил:
– Самого черта – нет, а вот Мать всех рек, да, видел.
Изнуренный спутник долго смотрел на лысого и, по-видимому, понял, что тот говорит серьезно.
– Так, значит, эта легенда тоже правда…
Его товарищ чуть заметно кивнул:
– Она берет начало прямо на небе, и, скажу по правде, я в жизни такой красоты не видел. – Потом он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон.
Джон МакКрэкен даже не пошевелился.
Он слишком обессилел, чтобы попытаться выбраться из лодки, поэтому только смотрел на неподвижное тело друга, зная, что, когда тот сморен усталостью, как сейчас, его и пушками не разбудишь.
Они уже много лет были вместе.
Слишком много!
Десять? Двенадцать? Пятнадцать?…
Он уже давно и счет потерял, хотя в действительности просто-напросто утратил представление о времени.
И даже приблизительно не мог бы сказать, какой сегодня день, месяц или год.
Единственное, что он помнил точно, – это то, что осенью 1902 года они с Элом Вильямсом прибыли в душный и болотистый порт Гуаякиль