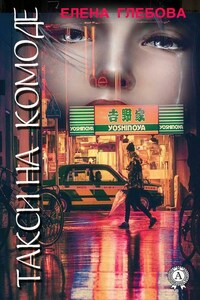Величественные своды скалистых гор нависали над узенькой лощиной. Карпаты в своей первобытной чарующей многогранной упоительной красоте, пленяющей душу, словно древние гигантские исполины склонились над свежесрубленной деревянной часовенкой. Местные сначала недоверчиво, редко и с каким-то предубеждением захаживали сюда, потом всё чаще и чаще, а полгода спустя маленькая часовенка стала местом постоянного присутствия православных верующих. Сначала люди останавливались у Поклонного Креста у подножия скал, затем ноги сами несли к деревянному срубу с вытянутым шатром, увенчанным куполом в форме луковицы. Необычная архитектура и обилие искусно выполненных резных деревянных элементов были не характерны для церквей и часовен этого края. Часовенку строил чужак, но как она была построена! Часовенка та была чудо, как хороша. Непросохшее дерево говорило о спешке и новизне – всё в этой часовенке дышало чудом, было строгим и гармоничным, ничего лишнего, и в то же время деревянные резные узоры на стенах и перилах на паперти свидетельствовали о редчайшем художественном мастерстве резчика. В часовенке той никогда не было слышно пения. Тишина и голоса гор проникали в человеческие сердца, соединяя их с Богом.
Странный священник, строгий и молчаливый, редкой красоты мужчина с виду лет сорока тихо расставлял свечи под иконами. Свечи основанием уходили в песок, над песком был небольшой слой воды. Расплавленный воск капал прямо в воду и тут же превращался в незамысловатые фигурки-огарыши. Священник клал свечи у входа, у кого была возможность – тот оставлял за свечи денежку. На собранные гроши священник достраивал свой маленький храм, утонувший в скалах, словно милые сердцу Карпаты обнимали это маленькое творение рук человека и уберегали от лихих сил. Черноволосый, смуглый красавец с волосами по плечи, он был молчалив и угрюм. На плече его часто видели серую невзрачную пустельгу. Птица сопровождала священника повсюду, а когда он заходил в храм, птица кружила над деревянной луковкой постройки и гортанным криком извещала о том, что священник уже здесь. Молодухи из соседних деревень в бусах да нарядных платьях, с шёлковыми лентами в волосах часто наведывались к молчаливому священнику, но он смотрел на них равнодушно-бесстрастным взглядом, как умирающий смотрит в лазурное небо, и жутко становилось дивчинам от этого взгляда инока.
– Чёрт бы побрал такую красоту, – ругались они, – смотришь на него – аж, сердце замирает, а он, словно, из камня высеченный – немой, неживой какой-то, и взгляд, как будто из пропасти, из бездны на тебя смотрит.
– А то, и не священник он вовсе, – вторила другая, – мёртвый он среди живых – вот он кто, смотрит на людей своим взглядом леденящим, словно, в самое сердце метит, и при этом ни один мускул на лице его не дрогнет. А брови-то точёные чёрные, будто смоль, глаза синие – как омуты, ох, сколько же дивчин сгубила красота этого монаха, а он – ни Богу свечка, ни бабе кочерга – вот, помяни моё слово, заколдован он, не жилец он на этом свете, не жилец, поэтому и храм строит, и свечи жжёт – душа на волю просится, к людям живым, а никак – взаперти его душа, и сам он тоже раб чьего-то пожелания.
– А птица эта, видала ль, Алесь, что на плече его, – та взглядом человечьим так и пялится, прожигает, аж, насквозь. Я на него смотрю, не дышу, а птица та его – на меня, и вот-вот в глаза когтями, того и гляди, вцепится. И он монах – не монах, и птица его – не птица, вот те крест, – и вторая дивчина спешно набожно перекрестилась.
Образ немого угрюмого красавца-священника, пришлого в эти края, не давал покоя ни дивчинам, ни мужикам, и даже дети малые гуторили о странностях инока, вторя рассказам стариков. И действительно, странным был инок. Словно из сна вышедший, из другого мира, человек непередаваемой ледяной красоты и странного состояния духа. Мрачный, спокойный, равнодушный, угрюмый и холодный, как горное озеро, с чарующим взглядом человека, прожившего жизнь и познавшего все её законы. Он ничего не желал, ничему не удивлялся, он, словно, созерцал эту жизнь, не любя, но и не отторгая её. Смуглолицая мрачная красота этого человека, подёрнутая тайной и какой-то затаённой неведомой никому грустью, мучительной болью, от которой не сбежать и не закрыться, притягивала и завораживала, и чем недоступнее была эта красота, тем сильнее привлекал к себе инок. Маленькая часовенка была насквозь пропитана ароматом роз и горных васильков, мышиного горошка и душистой руты, бело-розового ясенца и горных колокольчиков. Дивчины приносили в храм цветы, ставили свечи, втихаря друг от друга вешали на иконы свои украшения в знак благодарности за исполненное желание или моля о чём-то своём сокровенном. Инок смотрел на всё это, равнодушно и холодно, будто рядом с ним был только Бог.
Одна слабость угадывалась у красавца-отшельника – серая неприметная пустельга. Птица постоянно сопровождала монаха, куда бы он ни шёл, кружила над ним и часто садилась на его плечо. Умная и такая же равнодушная к миру, она, словно, жила мыслями и чувствами инока. Часто садясь на его руку, пустельга пила из его ладоней, и странная связь ощущалась между монахом и серой невзрачной пятнистой птицей с таким же печальным, как у инока, взглядом.
Часть 2. Негаданная гостья
Весть о молчаливом иноке, что одним взглядом приковывал к себе девичьи сердца, быстро разлетелась по всем Карпатам. Люди приходили в храм, приносили цветы, брали свечи, молились, часто пытались заговорить с монахом, но инок отворачивался и уходил от разговора. «Обет молчания», – думали прихожане, дивчины с досады кусали губы, мужики дивились на его отрешённость от мира и всего человеческого. Инок излучал достоинство и скорбь, и боль его светилась в его взгляде, движениях и равнодушии к миру.
Жил инок в глубине гор, среди серых массивных скал в убогом жилище. Наскоро слепленная мазанка с камышовой крышей, скудным бесхитростным убранством была его домом. Разводил инок пчёл, они были его заботой и его радостью. Мёд инока слыл одним из самых лучших и целебных. «Намоленный мёд», – говорили деревенские, принося взамен кто гроши, кто яйца, кто корзину груш, яблок или черешни. Дивчины под предлогом покупки мёда часто пытались завязать разговор, но инок лишь хмуро выходил из хаты, давая понять, что это излишне.
На закате последнего дня страстной седмицы возле жилища инока раздался странный шорох. Пустельга встрепенулась, слетела с плеча монаха и вылетела вон из хаты. Ни одной живой души вокруг, птица подозрительно облетела всю хату, поднявшись на высоту вершин горных сосен, но никого так и не увидела. Тем не менее, шорох повторился, кто-то громко чихнул и чавкнул, втянул носом влажный холодный горный воздух, и из-за серых валунов показался чёрный кожаный нос, затем вынырнули уши, а после и вся хищная мордочка куницы. Пустельга вздрогнула, подняла крик и спикировала к земле, пытаясь клюнуть негаданную гостью. Инок, словно, почувствовал это и спешно вышел из хаты.