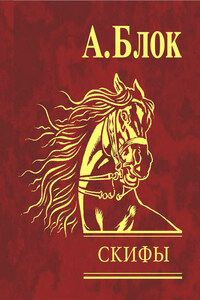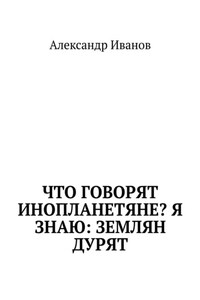Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и нежившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, —
Нам рано предаваться ей.
Некрасов[1]
Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством.
Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменяла невеста. Человек хохочет – и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен, – как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот. Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать, чтобы он перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, – и не могу. Самого меня ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас обоих нет. Каждый из нас – только смех, оба мы – только нагло хохочущие рты.
Это – не беллетристика. Многие из вас, углубившись в себя без ложного стыда и лукавства, откроют в себе признаки той же болезни.
Эпидемия свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он вовсе не умеет улыбнуться, ему ничто не смешно. И по нынешним временам это – не менее страшно, не менее болезненно; разве мало теперь явлений в жизни, к которым нельзя отнестись иначе, как с улыбкой?
Много ли мы знаем и видим примеров созидающего, «звонкого» смеха, о котором говорил Владимир Соловьев[2], увы! – сам не умевший, по-видимому, смеяться «звонким смехом», сам зараженный болезнью безумного хохота? Нет, мы видим всегда и всюду – то лица, скованные серьезностью, не умеющие улыбаться, то лица – судорожно дергающиеся от внутреннего смеха, который готов затопить всю душу человеческую, все благие ее порывы, смести человека, уничтожить его; мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое отчаянье, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть.
Кричите им в уши, трясите их за плечи, называйте им дорогое имя, – ничто не поможет. Перед лицом проклятой иронии – все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба[3]. Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина, «in vino veritas» – явлена миру, все – едино, единое – есть мир; я пьян, ergo – захочу – «приму» мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу – «не приму» мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяного человека – что спрашивается? Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все обезличено, все «обесчещено», все – все равно.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru