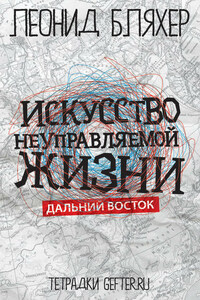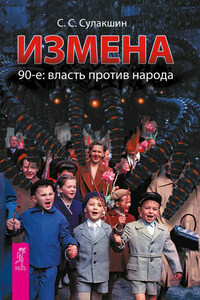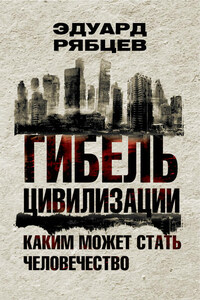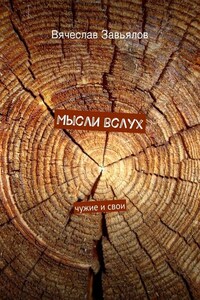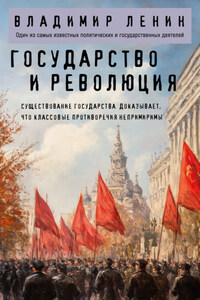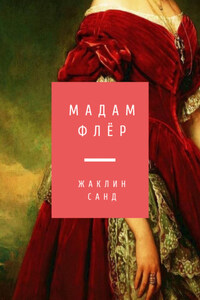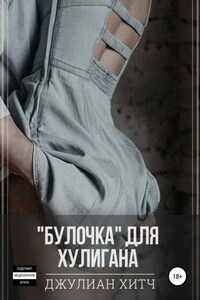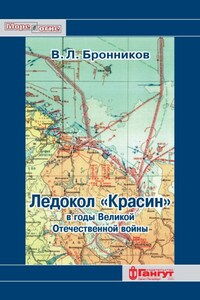Улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
В. Маяковский
Одним из самых поразительных открытий, свершившихся в последние десятилетия, стало открытие множества Россий. О другой России (отнюдь не об оппозиции) заговорили давно, уже в первой половине 1990-х годов. Россия «русскоязычных» жителей бывших советских республик и Россия российских регионов, Россия потерянная и Россия криминальная. Да, много еще разных скрытых стран и народов, проживающих на одной территории. Эти «разные страны» под влиянием ветров демократии стали обретать голос, стали спорить и решать на самых разных площадках, от площадки перед поссоветом до Верховного Совета последнего созыва.
Голоса эти были отнюдь не благозвучным пением ангелов грядущей демократии. Гораздо чаще они были грубыми, хриплыми и мало похожими на выступления европейских парламентариев. Но у них было одно важнейшее достоинство: они были голосами России, ее разных и очень разных жителей. За невнятность этих голосов стоит сказать спасибо артикуляторам общественного мнения, которые в тот момент артикулировали что-то совсем иное. При этом были искренне удивлены, когда оказалось, что артикулировали они не интересы старой или новой власти, не хриплые голоса «почвы», а выдуманный, вымечтанный ими объект.
Правда, потом, под победный грохот выстрелов по Белому дому в 1993-м, разговоры о разных Россиях отошли несколько в сторону, переместились из жизни в «исследование жизни». Так часто случается: когда нечто исчезает из жизни, его непременно начинают исследовать, реконструировать и толковать. В рамках регионалистики и изучения проблем федерализма, в рамках антропологических и этнографических штудий эти разговоры продолжались. Но продолжались они главным образом в академических аудиториях, в минимальной степени затрагивая толщу публичной речи, сознание основной массы жителей. Точнее, шел более или менее быстрый процесс вытеснения этих разговоров из легального и общего пространства в резервацию, ставший особенно стремительным в текущем столетии.
Да и сами эти разговоры были отнюдь не простыми, даже на уровне попыток научного описания. С одной стороны, ученые видели гигантские различия в образе жизни, типах хозяйствования, климате, кулинарных особенностях, эстетических пристрастиях, вплоть до цвета глаз и волос жителей Калининграда и Владивостока, Краснодара и Архангельска. С другой стороны, попытка их как-то объективировать чаще всего с треском проваливалась. Массовые опросы, контент-анализ прессы, да и статистические данные вполне укладывались в общую картину. Выламывающиеся из картинки элементы существовали на периферии смыслового поля.
Причина в целом достаточно очевидна. После расстрела парламента в 1993 году различия разных частей России уходят в тень. Они простирались в широких пределах от особенностей двойной бухгалтерии и устного найма до специфики криминальных крыш, разборок, властной дистрибуции, организации бизнеса и социального взаимодействия. Но многочисленные исследователи нашего «неформального всё» были сосредоточены более на фиксации несовпадения формальных принципов и неформальных правил. Веселая неформальность казалась важнее и интереснее, нежели описание ситуации, где неформальное и формальное слиты воедино. В результате реальность российской «живой жизни», точнее реальности, осталась несказанной. Важно и то, что в силу особенностей, о которых пойдет речь в книжке, она (реальность) и не особенно стремилась быть сказанной.
Эти очень разные, но главным образом неформальные отношения персонифицировались в фигурах «региональных баронов» – губернаторов 1990-х годов. Тех самых, которые «перегибы и произвол на местах». Тех самых вполне самовластных владык. Но при всем их могуществе в легальной и легитимной сфере они были только чиновниками, правда, всенародно избранными, то есть по уровню легитимности равными, скажем, президенту страны. Практически, будучи «императорами в своем королевстве», эти «императоры» оказались так и не способными создать легальный легитимизирующий дискурс. Достаточно тонкие и по-своему изящные попытки создать такой язык[1] отторгались региональным сообществом как «чужие».
Предельно разные регионы, да и не только регионы России, обладали одним общим языком, идущим из центра. Разная реальность втискивалась в этот язык – и научный, и публичный, – воспринималась только через него. Иных форм презентации просто не оказывалось. Единый язык, существуя по законам семиотически упорядоченной совокупности текстов, создавал плотную стену смыслов, заслоняющих реальность и от взгляда исследователя, и даже от взгляда жителя. Реальность за пределами единого языка оказывалась непоименованной, а значит, неисследуемой и нефиксируемой.
В условиях, когда различия не столь существенны, такой единый язык скорее благо. Он позволяет легче осуществлять коммуникацию, согласовывать интересы. То, чем во имя нее жертвуют, в этом варианте оказывается не особенно существенным. Однако в варианте значимых различий, в варианте конфликта интересов общий язык, выработанный вне переговоров и согласований, превращается в «прокрустово ложе». Но иного языка и коммуникации, и самоописания просто нет. Неформальная реальность, не только экономическая или политическая, но и любая другая, продолжала «корчиться безъязыкая». Потому при опросах люди воспроизводили ритуальные речевые формулы, почерпнутые из последних телепередач. А интерпретаторы вычитывали из них привычные смыслы.
В результате, в отличие от ситуации в Империи Христиан после Вестфальского мира, «короли» оказались слабее императора.
Возглавляемые ими региональные сообщества попросту проиграли конкуренцию федеральному бюджету, одухотворенному нефтью и идеей спасения России. Слабые попытки построить «региональную идеологию» конца 1990-х годов были с легкостью раздавлены официальным дискурсом, использующим все ресурсы советского идеологического наследия и мощь федеральных трансфертов.
Региональная реальность, которая и в начале, и в конце 1990-х годов была близка к тому, чтобы обрести голос, была окончательно вытеснена из публичной сферы. Но, оказавшись без голоса, она не исчезает. Ведь условия жизни, условия коммуникации, вплоть до привычки ездить за вещами в Польшу, Турцию, Монголию или Китай, остаются прежними. Остаются прежними и социальные сети, пронизывающие каждую пору социальной ткани страны.
Их невидимое существование проявляется в классических формах – в оппортунизме, в тактике избегания встречи с властью, в стремлении регионов перенаправить федеральные трансферты из бессмысленных (для регионов) сфер в «правильные» (для регионов же). Этот «скрытый гул», проявлявшийся в самых разных формах на протяжении всех «нулевых» годов, стал прорываться на поверхность, как только сияющая нефтегазовая пленка, охватившая страну, ставшая символом ее единства, начала истончаться.