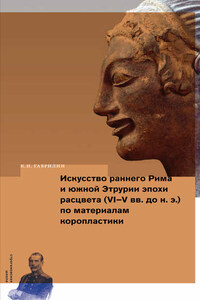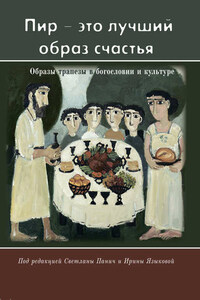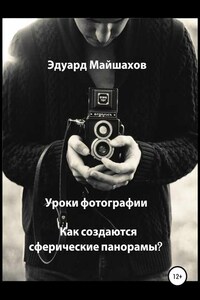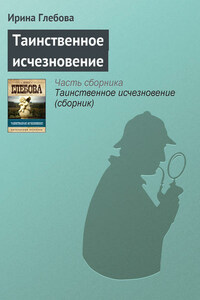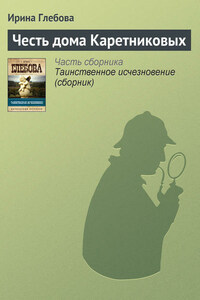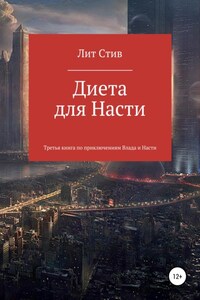Монументальная коропластика архаического периода – одно из высочайших достижений италийской художественной культуры. – к сожалению, недостаточно освещенная специальными исследованиями. Сложность изучения этой разновидности скульптуры объясняется тем, что типологическое разнообразие этрусской и раннеримской архитектуры, ее эволюция до недавнего времени представляли серьезную проблему. Кроме того, круг известных памятников терракотовой скульптуры был слишком узок. Долгое время сомнение вызывала даже взаимосвязь терракотовых статуй и архитектурных комплексов. Между тем эта область художественной культуры чрезвычайно важна и перспективна для искусствознания, так как она фокусирует очень многое в этрусском и раннеримском искусстве, позволяет достаточно полно проследить стилевое развитие и контакты с восточносредиземноморской, греческой и пунической традицией.
Очерки и учебные пособия по истории Древнего Рима характеризуют архаическую эпоху латинской цивилизации предельно сжато, отказываясь от анализа достижений и особенностей искусства той поры. История древнеримской художественной культуры начинается для среднестатистического читателя неожиданно, вдруг, с периода расцвета позднереспубликанской культуры II–. вв. до н. э., когда после включения в состав Республики греческих городов юга Италии и Сицилии, передачи Риму в качестве наследственного дара Пергамского царства, присоединения Афин и других известных городов Балканской Греции и, наконец, включения в состав Римского государства величайшего из эллинистических городов – Александрии Египетской, здесь, в бедной стране латинов, известной своими строгими нравами и непритязательной культурой, появляются величественные архитектурные комплексы беломраморных храмов и святилищ. Бурно развиваются ваяние и живопись, озаренные «золотым веком латинской поэзии», а сами римляне усердно изучают греческий язык, греческую философию и литературу и даже говорят с греческим акцентом (Catulli, LXXXIV), так что Гораций (Epist., II, 156–157), современник этого стремительного взлета римской культуры времени правления Августа (2. г. до н. э. -1. г. н. э.), с патетическим изяществом указывает на источник вдохновения: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый искусства внеся». И если Гораций явно подводит черту под завершившимся процессом грецизации латинской культуры, то его предшественник, Катон Старший (234–14. гг. до н. э.), переживавший крушение традиций и идеалов прошлого, явившийся живым свидетелем становления нового искусства с его роскошью и забвением старой римской virtu, с болью восклицает: «Вот привезли мы статуи из Сиракуз, а ведь это беда для Города (Рима. – Прим. авт.), поверьте мне. Как это ни удручает, но все чаще слышу я о людях, которые восхищаются разными художествами из Коринфа и из Афин, превозносят их и так, и эдак, а над глиняными богами, что стоят на крышах римских храмов, смеются» (Liv. XXXIV, 4, 4–5; перевод Г.С. Кнабе). Из цитаты Катона следует очевидный намек на главную святыню Древнего Рима – архаическую терракотовую статую Юпитера, управляющего квадригой, созданную еще в эпоху царей или ранней Республики (сер. VI – нач. . в. до н. э.. – символ государственности, военных побед, дарованных божеством, и великой славы предков (статуя эта венчала знаменитый Капитолийский храм). Кажется, действительно, тот самый, овеянный древнелатинскими мифами архаический Рим исчезает уже на глазах Катона и окончательно уходит в небытие во времена масштабной реконструкции города, проведенной по инициативе самого Августа, заявившего с гордостью, что «приняв Рим глиняным, он оставляет его мраморным» (Sueton., Aug., 28, 3).
Таким образом, античная литературная традиция настойчиво отмечает главнейший материал архитектуры и скульптурной пластики древнейшего Рима – глину, необходимую для возведения сырцовых стен зданий, создания кладки из обожженного кирпича, скульптурного убранства фасадов, изготовления статуй и рельефов, иначе – коропластики, терракоты, покрытой яркой пятицветной росписью.
Другой великий представитель «золотого века Августа», Овидий, также стал очевидцем быстрого исчезновения отчей старины, свидетельствовавшей о простоте, пуризме и строгих нравах прошлого, в духе аgreste Latium («сурового Лация»), не знавшего великолепия, избытка («кашу тогда подавали в грубом горшке этрусской работы», Ovid., Fast., I, 201) и мраморных статуй, когда главная культовая статуя Рима – статуя Юпитера Капитолийского «глиняная и незапятнанная златом сияла!» (Ovid., Fast., I, 201). Авторы ранней империи – Плиний Старший (N.H., XXXV, 157), Плутарх (Popl., 13) и позже Сервий (VII, 188. – тоже сообщают нам о древнейших святынях Вечного города: уже упомянутой культовой тронной статуе Юпитера, хранившейся в целле святилища, и акротериальной скульптурной группе, венчавшей колоссальный фронтон Капитолийского храма. – огромной терракотовой квадриге верховного божества латинов, созданные, как утверждают перечисленные авторы, этрусским скульптором Вулкой. «Статуя была глиняная и окрашена красным. Квадрига на фронтоне храма была также глиняная. Затем Вулка вылепил Геркулеса, известного как “глиняный Геркулес”. Скульптуры из глины еще существуют в разных местах <…> но больше в провинциальных храмах». – рассуждает Плиний (N.H., XXXV, 157). Еще один современник Плиния, Сенека, среди роскоши и блеска императорского Рима с сожалением напоминает своим соотечественникам: «Когда боги еще взирали на нас с благосклонностью, они были из глины» (Epist., 31, 1). Примечательно, что у авторов эпохи ранней империи латинское прилагательное fictiles – глиняный – превращается едва ли не в эпитет, определяющий не просто архаизм скульптурного произведения или архитектурного комплекса, но причастность его к «святой древности», когда сформировались традиции, создавались главные национальные ценности народа.
Анализируя древнейшую архитектуру Вечного города, римский инженер Витрувий (. в. н. э.) также говорит о сырцоводеревянных храмах, выстроенных по этрусскому образцу и украшенных статуями из терракоты (Vitr., III, 3, 5). Скульптуры, с избытком размещенные на кровле храма, ее гребне, вершине фронтона и по краям, создавали особый эффект, благодаря которому постройки, отличавшиеся грузными пропорциями, казались еще более тяжелыми, приземистыми, внушительными и мощными одновременно.
Все перечисленные античные авторы единодушны в одном: ссылаясь на книги Варрона и еще более древние литературные источники, а также предания, они приписывают упомянутые ими произведения древнейшего зодчества и пластики эпохе царей из рода Тарквиниев, правивших Римом в V. в. до н. э. Строительные и декорационные работы, с размахом начатые этой царской династией, были завершены в первые годы Республики, то есть в первой четверти . в. до н. э., о чем свидетельствует Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» (Popl., 13).