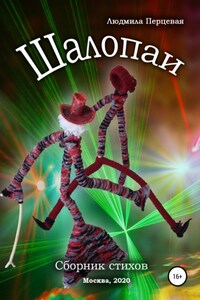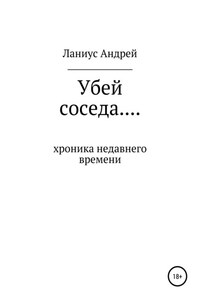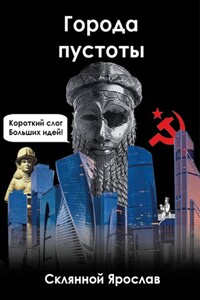Ему снился горячий ветер. Сон этот не имел ни очертаний, ни цвета, только осязание. Напор горячего степного воздуха крепко обжигал кожу лица, заставлял щуриться; он набычился, но упрямо шагал вперед. Этот напор ветра, травного, чуть отдающего лошадиным потом, гречихой, дегтем и еще черт знает чем, но таким родным, его самого суть составляющим, был ему приятен. Он и себя, молодого, веселого, красивого, не видел, только ощущал частью степи. Он не видел отцовой хаты, не видел лица матери, но этот горячий запашистый ветер переполнял его той давней жизнью с такой силой и болью, что он заплакал. И проснулся.
Лизавета похрапывала безмятежно на соседней подушке, разметав черные волосы. Жена, мать его сына, вроде бы тоже близкий человек, но совсем из другой жизни. За стеной что-то хряпнулось об пол, и гундосым голосом запел пьяный сосед. Видать, кувыркнулся с табуретки. Степану стало нестерпимо душно, маленькая комнатка в общежитии даже через стенки давила его многолюдьем, человечьей вонью, чужими заботами, какой-то мышиной возней. Он потихоньку выбрался из-под одеяла, сунул босые ноги в валенки, прикрыл дверь, вышел на крыльцо.
С вечера круживший обильный снегопад утих, улегся пышным покровом на улицы, заборы, занес бараки. Побелела и зубчатая стена леса, подступившая со всех сторон к рудничному поселку. Небо прояснилось, и ночная его чернота ярче сияющих сугробов сверкала, густо выстланная звездами. Полная, оглушительная, вымороженная до космических высот тишина наполнила душу тоской. Здесь, в мире без запахов и родных звуков, для него не было жизни. Он не мог об этом говорить с женой, с мужиками на работе, с сестрой, которая и вообще-то была бабой жалкой и глупой, он не мог об этом даже думать словами. Он это ощущал всем своим существом, должно быть, поэтому так навязчиво и часто во сне мучили его ароматы степи.
Кинув «беломорину» в сугроб, он, дрожащий от мороза и невнятного бешенства, вернулся в дом. Какие– то дикие обвинения колотились в голове – в адрес каких-то неясных тех, или неизвестного того, или несправедливой судьбы: «Убили, просто убили, раздавили – не встать…»
И тут же угрюмо и зло сказал вслух: «А это еще посмотрим, встать или не встать».
С той ночи он как-то сильно переменился, даже мужики, товарищи по бригаде, заметили поселившееся в нем ожесточение, как-то опасливо стали его сторониться. Первым делом Степан сходил в управление рудника, написал заявление, что хочет строиться. Там не возражали, отвели участок на новой улице, даже отдали только что разобранную избу – бывшую контору. Перевез бревна, выкопал яму под будущий подвал, выложил из камня фундамент. К лету дом уже стоял, не бог весть какое сооружение, но посередине выложена была огромная печь с лежанкой, многочисленными дымоходами, выходящая теплыми белыми боками во все четыре комнатенки. Хозяин уже понимал, каково зимовать в этих краях!
Лиза радовалась, что он загорелся обустройством – и вместе с тем в душе ее поселилась безотчетная тревога. Степан стал замкнутее, сосредоточеннее на каких-то своих внутренних мыслях. Он словно бы что-то задумал, но ей там, внутри этих дум, места не было. Он с нею не советовался, не шутил, выдавал лишь готовые решения. Вдруг скажет:
– Завтра на рынок пойдем, надо поросенка взять, за лето свое мясо вырастим.
Или неожиданно спросит жену:
– Где соседи семена берут? Давай, готовься грядки копать, без огорода какая жизнь, не прокормимся. В магазинах-то овощи только по сезону, а жрать круглый год хочется.
И Лиза кидалась искать семена, опрашивать соседок, что тут, на северах, вообще за короткое лето вызревает. Оказалось, очень даже многое, лето было хоть короткое, но уж картошка – моркошка росли. Лиза даже инициативу проявила: взяла десяток цыплят, там, глядишь, и свое воспроизводство наладится. И робко мужу намекнула, что неплохо бы и сарай, и баньку свои срубить, в городскую общую ходить далеко, да и противно. Он согласно кивнул, через неделю привез машину горбыля, рулоны рубероида, несколько бревен для остова.
Год и другой прошли в строительных хлопотах. На работе тоже все у него шло своим чередом. Степан ушел из бригады, не любил он ковыряться в забое, давила его нависающая кровля. Стал механиком участка, потом – шахты. Раньше почему-то свою квалификацию по механической части не обнаруживал. Не собирался здесь оседать. Теперь осваивал насосы, подъемные механизмы, лебедки, скиповое хозяйство. Вот уж где у него всё ладилось! Через это свое пристрастие к технике он даже в героях оказался. Правда, поневоле, через большое несчастье.
Случился на той шахте, где он работал, прорыв воды при проходке, не катастрофический, но один горизонт залило полностью. Горняки, что работали в забоях, оказались отрезанными, надо было срочно откачивать воду, а залитый водой насос чихнул – и заглох. Степан, как упертый, несколько раз нырял к нему, дергал, крутил, на ощупь что-то там подвинчивал, – и ведь затарахтел, гадина! Заработал, тварь такая! Воду откачали, перепуганных горняков подняли на-гора, они чуть не со слезами Степана обнимали, он, сам взволнованный донельзя, куражился: "Что ж вы думаете, я своё оборудование не знаю, сладить с ним, хоть на суше, хоть под водой, не смогу?!"
А вечером напился до бесчувствия, знал про себя, что могло ведь и по-другому закончиться. Не любил он подземную работу.
Но что уж бога гневить, рукастый и головастый был муж у Лизаветы. Вот только сильно смурной. Чувствовалось, что гнетет его какая-то внутренняя боль. Чуть хозяйственные хлопоты отпустили, начал выпивать. Да не в шумных компаниях, не в загулах, а сам с собой, в одиночку. И сказать ему в укоризну ничего нельзя – прямо вызверится весь, убить в такую минуту может! А уж у Лизы вслед за сыночком дочка нарисовалась. Степан вроде бы лицом просветлел, когда на маленькое создание загляделся: такая светленькая, смешная, ручонками за палец хватается и цепко держит!
Держит. И опять нахмурится, отойдет. Как будто непрестанно и неуступчиво боролись в нем две жизни, та, прошлая, счастливая, и эта, нынешняя, в которую загнали его, согнули и заставили выживать самым рабским образом. И сколько он ни хорохорился, сколько ни убеждал самого себя, что он – хозяин своей жизни, не получалось. То есть все шло успешно, а убедить самого себя не получалось.
Лизавета осторожно начала поговаривать, что с двумя детьми да не расписанными жить – не годится. Он отмалчивался до тех пор, пока не миновали шесть лет вынужденной ссылки. Ну да, их, вышедших в ту войну из окружения, сосланных на северные рудники на проверку, так и звали «шестилетниками». Теперь, по истечении срока, он мог выезжать из этого городка хотя бы в отпуск, писать письма родным, тем, из прошлой жизни.