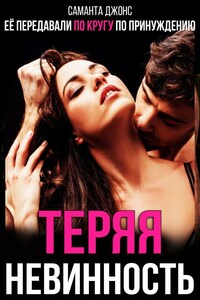Выбегаю, бросив тело в улицу!2
Знаете, кто так сказал? Один гениальный русский поэт, которого на моей малой родине чествовать бы точно не стали, заклеймив нонконформистом и революционером.
Прекрасная причина поставить спектакль по мотивам его стихов, не правда ли?
Мой театр – жалкое, захудалое деревянное зданьице на окраине Сиены3, которое, я уже сбился со счета, сколько раз мы с моей труппой восстанавливали, иной раз полуразрушенное. Чаще всего с ним расправлялись либо огнем, либо топором. Тот, кто сказал, что на огонь можно смотреть вечно, приближаясь к спокойствию и просветлению, точно не видел, как горит его детище.
Вот так и теперь, я, в измазанной копотью одежде*4 – сегодня вместо премьеры возвращали театру подобающий вид – летящей походкой бегу* по живописной аллее. Природа – это, наверное, единственное, что радует меня в моем городе, который будто бы покинул пространственно-временной континуум, оставшись в бесконечном Средневековье, где любые свежие мысли вянут, как молодой цветок в знойной пустыне.
Взобравшись в очередную горку*, нехотя перехожу на шаг – все-таки легким не идет на пользу регулярно дышать дымом, задерживаясь в подожженном театре, чтобы спасать зазевавшихся членов труппы и самые ценные декорации.
Мои пальцы, пожелтевшие от дешевого курева*, отточенными движениями делают очередную самокрутку. Делаю первую затяжку. Пейзажи с искрящейся в закатных лучах зеленью кажутся еще прекраснее.
Знаете, может быть, я безнадежный оптимист, но я очень верю, что однажды взлечу*. А все эти трудности – временны, просто жесткая тренировка*. Ведь путь в искусстве никогда не бывает простым. Плыть по течению* культуры – способ изначально провальный. В историю всегда входили те, кто шел вразрез, плыл брассом, изнемогая, барахтаясь, но продолжая.
Так было в детстве, когда я поехал с родителями на Лигурийское побережье5, а они не уследили за мной. Я заплыл слишком далеко, держась за найденное мной на берегу бревнышко, а потом волна вышибла его из моих рук. И маленький я, почти не умея плавать, отчаянно боролся за жизнь, пока меня не увидели и не спасли другие взрослые.
Стоит ли удивляться, что, чуть повзрослев, я стал все реже появляться дома?* От любви, ласки и внимания там доставались лишь крошки. Слышали стереотипы про сильную связь итальянских мужчин с их матерями? Так вот, я стал большим исключением.
Конечно, меня не слишком искали, когда я не появлялся дома уже по несколько дней подряд. Конечно, меня не спрашивали, чем я занимался все эти годы. А я поглощал залпом романы и пьесы: цензурные – из городской библиотеки, нецензурные – по интернету, в компьютерном клубе, тратя на него все свои карманные на еду.
Но, конечно, мне устроили взбучку, когда узнали, что я с товарищами из художественного колледжа поставил спектакль по «Венере в мехах»6.
Отец сказал, что я опозорил семью, и со мной с тех пор не разговаривает. Мать тоже тогда использовала всю свою экспрессию, чтобы объяснить, как я заклеймил их доброе имя, но – клянусь – я заметил шаловливую ухмылку на ее лице, промелькнувшую буквально на долю секунды. В тот момент у меня закралось подозрение, почему отец всегда, сколько я себя помню, так лебезил перед ней.
Вынырнув из воспоминаний детства, в удивлении озираюсь по сторонам – я даже не понял, как оказался в этом районе. Народ здесь подозрительный, кажется, торгуют на углах* они не только травкой. На секунду в сознании рождается фантом того самого дурмана, глубокого, как темный колодец, упав в который, рискуешь там же отдать Богу душу.
Резко мотаю головой, впрочем, не особо привлекая этим внимание прохожих – здесь живут и фрики похлеще меня.
Я ведь видел в своей жизни много слез… Настолько много, что, если их высушить, соли* будет не меньше, чем я вдыхал с тех самых дорожек, дарующих вдохновение. И, что тогда было даже важнее, – безразличие к тем, кто его не оценит.
Пока я еще понимаю последствия роковых мыслей, закрадывающихся в голове, надо уходить. И лучше бы пройти через церковь.
Представляете, я, последний пошляк и развратник, позорящий высокое итальянское искусство и свою примерную консервативную семью, верю в Бога.
Поверят ли когда-то они? Что в моем сердце тоже находят место высокие, религиозные чувства.
Сколько набожных писателей изливали бумаге душу в самых томных, самых кричащих откровениях: Боккаччо, Достоевский, Фитцжеральд… Каждому наверняка было непросто. А я, ко всему прочему, несу свои откровения на сцену, давая презирающим меня и мое искусство людям возможность излить свой праведный гнев тут же, без посредничества литературных критиков.
«В этом доме нет Бога»* – такую эпитафию дали бы моему театру. А потом сожгли бы его, как сжигали на костре в Средневековье девушек, которым по несчастью достались волосы цвета одной из мощнейших природных стихий.
Знаете, во что еще я верю? – Во время*. И в то, что в нем поразительно много параллелей. А как иначе объяснить тот факт, что мышление некоторых людей в двадцать первом веке принципиально не отличается от средневекового?
Хотел бы я иметь крылья, вылитые из церковных свеч! Интересно, люди смогли бы опошлить то, что капли освященного воска падали бы на мою спину, а я бы находил наслаждение в этой боли? И кого волновало бы, что главная тому причина – обретение свободы.
Однажды я взлечу*. Это неизбежно. Я уже прошел так много, что из одной моей жизни можно сплести мемуар и поставить по нему скандальный, душераздирающий спектакль. Только не в Сиене. Иначе славу я обрету не иначе, как посмертно.
«С восковыми крыльями за плечами я буду искать эту высоту»*.
А сейчас я стою на самой высокой точке города, вижу его как на ладони, весь его консерватизм, залатанный в кирпич, сквозящий в архитектуре средневековых зданий.
Умоляю, отвезите меня туда, где я выплыву! Здесь я задыхаюсь*. Задыхаюсь от дыма и от узости мышления, от ограниченности местных людей.
«Данте Алигьери – гений!» Бесспорно. А Джованни Боккаччо – жалкий пошляк7? Да что вы говорите. Вы слышали о готической вертикали?8
Почему люди так стремятся болтать о том, в чем не смыслят? Ни черта не смыслят!* Этот вопрос не дает мне покоя чуть меньше, чем всю жизнь.
Прохладный ночной ветер проникает под тонкую ткань полурасстегнутой рубашки… Как же мощна сущность природной стихии на этой вдохновляющей высоте!* Потоки воздуха ласково-сильно взъерошивают волосы, поднимая светлый каскад с уже было понурившихся плеч.
Как же меня пьянит ветер…* И опьянение это подобно возношению в небеса, но с правом вернуться на землю и, окрыленным, продолжить ковать себе дорогу к всенаполняющему счастью.