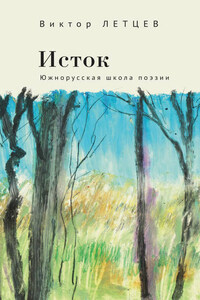Конвенция (не)реальности, или Киевский opus magnum современной русской поэзии
…Личная автогеография порой таит в себе нечто большее, нежели сведения о себе любимом и собственных вехах на пути. «Всякая эпоха переходна, – напоминает автор этой книги. – Всякая переходит. Но можно переходить через улицу и переходить через Альпы. В первом случае рукой подать до дома. Во втором – очень многое надо взять с собой и очень многое оставить». Если вспомним известную сентенцию о том, что далеко бывает не до Америки, а до вокзала, то что же все‐таки удалось поэту унести и чего лишиться по дороге в свои шестидесятые, со времен которых он живет и работает в Украине?
Иными словами, в случае новой книги Виктора Летцева, в которую вошли стихи последних лет, что же привносит «киевский» концепт его поэтики (или в его лице «так называемая южно‐русская школа поэзии» (М. Берг) в современную русскую словесность? И каким образом «этимологические эксперименты», которыми цитируемый выше автор обозначает обновление «профетического пафоса» нашего героя, на самом деле, являются данью все той же «местной» традиции. А также ее, традиции, неизбежности в случае изменения и семантики места, и ее мистико‐философского модуса.
Если же серьезно, то есть, без снисходительных контаминаций в духе «дачного» Антоши Чехонте («Доехал до Харькова. Наконец‐то юг»), то речь, все‐таки, о более важных «технологических» моделях, нежели просто «территориальная» привязка Слова к бревну «национальных» смыслов, не замеченных на голубом глазу. Итак, классический метод постижения реальности в ее «поэтическом» оформлении – так называемая «рефлексия», пришпиленная к таблице жанров – разделяется, как известно, на «повествовательную» (американская традиция) и «назывную» (европейский канон). То есть, «называть вещи своими именами», а не перечислять их в столбик, каталогизируя реальность, как последний битник – это, согласитесь, все‐таки более ответственное и важное упражнение в демиургии. (В том, что автору книги присущи «созидательные» черты «поэтического» характера, отметило в свое время немало критиков («не чужда роль поэта‐демиурга и пророка»), и собранный воедино массив его текстов – в том числе, размышления о поэзии, теория стиха и выступления на публике – лишний раз это подтверждает).
Сам автор так обозначает вышеупомянутые векторы «демиургического» и «эпикурейского», скажем так, различия: «Соответственно я различаю: поэзию непосредственного выражения впечатлений мира (за этим – секулярная установка Нового Времени и опосредованность восприятия позитивным знанием) и поэзию, где восприятие мира опосредовано религиозно‐философским понятием, а предметом непосредственного обращения является Сакральное».
Впрочем, сама книга, напомним, представляет собой своеобразное избранное автора, куда вошли и старые, и новые стихи, и как раз на подобном примере «компиляции» и можно узнать (увидеть, расслышать, распознать) поэта во всей его «эволюционной» красе. Будучи по духу поэтом «концептуальным», Виктор Летцев начинает свое путешествие в прошлое с иронической поэзии 70‐х годов, дополнив ее любовной и философской лирикой последующих лет. «Тяжек нисхождения путь/ вхожденье в отверстый проем / вмещенье в последний предел / в кромешную смертную тьму», – словно не о себе самом, а обо всех нас и нашей общей судьбе провозглашает автор свой путевой лист‐манифест. И позднейшие тексты он тоже маркирует несколько по‐другому, практикуя в биографическом «остранении» авторскую отстраненность и объясняя статус «я» в публикуемых стихах следующим образом. «Этот статус – иной, чем прежде, непривычный… Это «я» (в том числе и не обозначенная личным местоимением «точка говорения») есть не эмпирико-биографический автор и не соответствующий ему герой – но некое сфокусировано‐общее человеческое Я, выступающее субъектной инстанцией в Бытийном отношении-говорении (ср., напр., державинское «Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю…» – здесь лирическое «Я» никак неотождествимо с эмпирическим «я» автора…).
Жанры, создающие при этом подобную «статусную» («безличную») реальность, не исключают, а дополняют друг друга, и жизнь в городе, где «Днепр, огибая острова, / Сплавляет лед по чинному теченью», уже не кажется уходом в «столичную» украинскую глубинку, о которой еще футуристы 1920‐х писали как о «зеленой тоске на этом хуторе, что Киевом зовется». «Концептуальный Мир‐Текст или Текст‐Мир принципиально двусмыслен, двузначен, двуобращен», – уверяет автор в статье «Концептуализм: чтение и понимание» (1989).
И вышеупомянутые модели бытования поэтического текста («американская» и «европейская») в его творчестве обыгрываются в виде каких‐то «общих», дополняющих, а не исключающих реальностей. «Конструктивный смысл этих «альтернатив», – уточняет автор, – конечно, не во взаимоисключении, а, кажется, напротив, в столкновении и взаимопроникновении двух пространств, двух миров – знания и мнения, которые могут пересечься в некоей «третьей точке», на границе или за пределами ее».
При этом тавтологии, встречающиеся в стихах Летцева (о которых всегда упоминала критика) – это ведь не только элемент поэтики, усиливающий экспрессию текста, но и основная «технологическая» особенность данного жанра. Какого жанра, спросим вслед за критикой? Какого именно жанра, уточним после того, как все случилось? Какого еще жанра нам надо, переспросим в конце «тавтологической», согласимся, цепочки бытия, иногда именуемой «пищевой». («Все что разрушилось / что сокрушилось / ниспало / я воздвигаю / все упраздненное / отринутое / восстанавливаю / воссоединяю все / что отъединилось / восставляю место мое / утверждаю основы мои / все подлинное во мне / все изначальное / все что я есть…»). Как видим, жанр в данном случае один – это, конечно же, Один. Или Перун, или Уицилопочтли – особой разницы при этом нет. Поскольку все это как всегда – сакральное камлание, набор заклинаний или, если угодно, ритуальные концентраты, словно повторы‐квадраты в блюзе, рок‐н‐ролле или госпеле (церковном, все‐таки, песнопении).
То есть, как в случае Летцева, «игра в слова» – это, на самом деле, постоянный поиск наугад, продвижение на ощупь, выстрел вслепую, в результате чего ценность представляет не результат, а сам процесс, и если его фиксация – без пресловутых «бубенчиков рифм» и прочего «мастерства» – имеет вид не совершенства, но совершенной работы (совершенно, искусно исполненной) – то это, по всей вероятности, и будет поэзия. А уж подобное совершенствование, как уверял автор на вручении ему Премии им. Андрея Белого, «никак не возможно без раскрытия‐обретения в этом искании энергии Изначального, которое есть источник