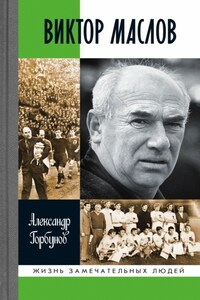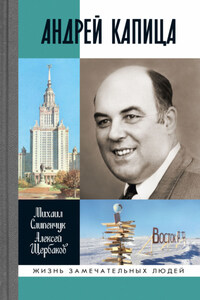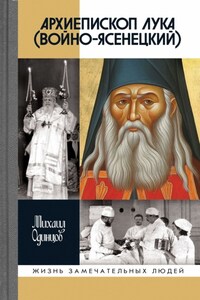Младенчества своего я, конечно, не помню, поэтому о нем будет кой-где упомянуто со слов матери. Она рассказывала мне, что родила меня в хлеву[3]. Родился я с большой, распавшейся начетверо головой, и мать долго боялась, что череп не срастется.
Роды были тяжелые. Мать, впавшую в обморок, из хлева перенесли на мост[4] и уже решили, что она умерла. Но когда моя бабушка, мать отца, Варвара сказала: «Ведь умерла баба-то», мать, придя в сознание и услышав эти слова, спросила: «Кто, матушка, умерла?» Тут бабушка рассмеялась и ответила: «Ты умерла. Мы ведь напугались, думали, что ты уж не жива».
Но мать осталась жива и после этого родила еще мне двух сестер и двух братьев, да до меня сестру и брата. Но первый ее мальчик Павел помер десяти недель от роду, а остальные мы – три сестры и три брата – остались живы и росли на радость и горе матери.
Я не говорю об отце, потому что не знаю, мог ли отец мой чувствовать и радость, и горе. Для всех нас он был только страшилищем, а также и для матери. Мать была им запугана, колотил он ее не только пьяный, но и трезвый, она всегда трепетала перед ним.
Когда он был дома, все были подавлены, ни разговоров, ни шуток не было. Я не помню ни одного случая, чтобы он подозвал кого-нибудь из нас и приласкал. И мы все, в свою очередь, старались всячески избегать его, не попадать ему на глаза.
Кроме отца, матери, бабушки и нас – трех братьев и трех сестер – в семье еще был дядя Николай или, как мы его звали, «дедя Миковка». Он, хотя и брат отцу, но нисколько не был на него похож, был человеком отменно мягкого характера. Мы все его любили и когда стали ходить на работу, то старались попадать на работу с ним и, наоборот, всячески ухитрялись не попадать с отцом. У дяди была жена Анна Спиридоновна, у них было двое детей. Также был дядя Павел (а мы звали «дедя Пашко») с женой Анной Григорьевной, у них также было к тому времени двое детей. И был еще дядя Михаил, но я его очень плохо помню. Когда его взяли в солдаты, помню только, что в последний день прощания по этому случаю было наварено пива и куплено вина: пировали, а потом прощались, все целовали дядю. Я сидел в это время на полатях, меня кто-то оттуда снял на руках, поднес к дяде, и он меня поцеловал, при этом его бритые усы меня укололи. Служил дядя во Владивостоке и вернулся уже после того, как мой отец отделился от братьев.
Семья была большая, но трудоспособных было меньше, чем «объеди» – так звали нас бабушка и другие за то, что мы еще не могли работать, а ели.
Бабушка, когда мы просили есть, часто говаривала: «Ой, робята, робята, выедите вы у отцов брюшины[5]».
Но такие опасения бабушки были необоснованны: хлебом наша семья была чуть ли не всех богаче в нашей деревне Норово[6]. Были в деревне бедняки: Микита Кривой, Митька Клипик, Лёва и другие; они, я помню, брали взаймы у нас хлеб, чтобы дотянуть до свежего. Бабушка потом, когда они в горячую рабочую пору не шли по первому зову отрабатывать, все ругалась, что, мол, их вот жалей, а они не хотят послушаться.
На работу я стал ходить раньше, чем в школу. Помню, как первый раз ходил жать. Жали в тот день всей семьей в ближнем поле, в «Подугорье». Я не знал еще разницы между суслоном и снопом[7] и, когда пришли домой ужинать, я бабушке похвастал, что нажал три суслона, а сестра моя Марика внесла поправку: «Не суслона, а снопа». Все засмеялись. Я немного сконфузился и с этого времени твердо усвоил, что называется снопом, а что – суслоном. Помню еще, как первый раз ходил снимать лен. Ходили тогда только бабы, «мужик» с ними был один я. Кроме матери, двух теток и сестры Марики была еще казачиха (батрачка) Ольгуха. Как я работал в тот день – не помню. Помню только, что, когда шли на работу, я уставал и тянулся сзади, а мать мне советовала бежать впереди, так как, мол, это легче: позади, говорит, идешь – все равно как судно волокёшь.
Был я тогда в сапожках новеньких, но больше я тех сапожек не запомнил, а уж потом у меня сапог не было лет до пятнадцати. Да и 15-летнему мне отец купил сапоги поношенные, с большого мужика, за полтора рубля. В них я потом и уехал в 1904 году в первый раз «на чужую сторону» – так говорили тогда, если уезжали куда-нибудь в город жить или на заработки.
Престольные праздники[8] я и любил, и боялся их. Боялся потому, что отец, когда напивался, становился еще страшнее и часто бросался на мать драться. А любил потому, что к празднику пекли много пряженников, витушек, дрочён[9] – можно было вволю поесть. И еще потому, что некоторые гости привозили нам – ребятам – гостинцев: пряников, конфет, а некоторые давали и денег копейки две или три, которые были для нас большой радостью.
Рядом с нами сосед имел мелочную лавку. Звали его почему-то Тяпушонок. Вот к этому Тяпушонку мы и мчались со своими копейками, покупали суслеников (пряников) или закусок (конфет), тех и других за копейку давали по три штуки.
Бабушка наша слыла за «богобоязную» старушку, была степенная, пользовалась уважением соседок и даже соседей-мужчин. Она любила рассказывать нам, особенно мне (когда мы сидели в летнее время дома одни) о кончине мира, об Антихристе, о Страшном суде. Я был очень внимательным ее слушателем и часто дрожал от ужаса. Ее рассказы о том, что перед «последним временем» загорит земля, реки пересохнут и т. п. привели к тому, что я в засушливое лето, видя, как пересыхает наша речка Городищна, цепенел от мысли, что уже наступает конец мира, а видя дым лесных пожаров, отчаянно ревел.