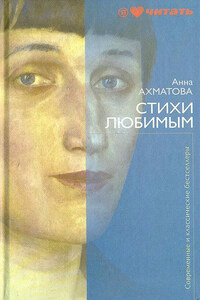Кроче изгоняют из Венеции. Сгомбро. Его бесчестие и его смерть. Случается несчастье с моей дорогой К. К. Я получаю анонимное письмо от монахини и отвечаю на него. Любовная интрига.
Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.
Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично. Скандал достиг такой степени, что мудрое правительство было вынуждено приказать молодому человеку отправиться жить куда-то в другое место.
Но немного времени спустя то, что приключилось со Сгомбро, возымело более серьезные последствия. Будучи влюблен в своих двух сыновей, он заставил более красивого из них прибегнуть к помощи хирурга. Бедный мальчик исповедался, что ему не хватило смелости отказать в повиновении творцу своих дней. Такая покорность отцовской нежности с полным основанием взывала к отвращению природы. Государственные инквизиторы отправили отца-тирана в цитадель Катаро, где он умер через год, отравленный ядовитыми испарениями. Вредоносное воздействие тамошнего воздуха прекрасно известно трибуналу, и он приговаривает к его вдыханию только тех граждан, кто заслуживает смерти, совершив преступления, которые из политических соображений не могут быть осуждены публично.
Это в Катаро Совет Десяти отправил пятнадцать лет назад знаменитого адвоката Контарини, знатного венецианца, который, благодаря своему красноречию, стал главой Высшего Совета и собирался изменить конституцию. Он тоже умер там через год. Что касается его сторонников, сочли достаточным наказать лишь четырех-пятерых главных из них.
У этого нобля Сгомбро, о котором я говорю, была очаровательная жена, которая, думаю, еще жива. Это м-м Корнелия Гритти, знаменитая своим умом даже более, чем своей красотой, противостоящей разрушительному действию времени. По смерти своего мужа, став себе хозяйкой, она смеялась над всеми, кто пытался посягнуть на ее свободу, но, никогда не заявляя себя врагом любви, благосклонно принимала их поклонение.
Однажды, в конце июля, в понедельник, мой слуга разбудил меня на рассвете, говоря, что женщина, которая приходит каждую среду, хочет со мной говорить. Вот письмо, которое она мне передала с грустным видом:
«Воскресенье, вечер. Несчастье, что случилось со мной, приводит меня в отчаяние, потому что я должна скрывать его от всего монастыря. У меня течет кровь, я не знаю, как ее остановить, и у меня мало бинтов. Лаура сказала, что нужно много бинтов в случае тяжелого кровотечения, и я не могу ни с кем посоветоваться. Отправь мне бинтов, мой единственный друг. Ты видишь, я должна довериться Лауре, которая теперь может приходить в мою комнату в любое время. Если я от этого кровотечения умру, весь монастырь узнает причину моей смерти; но я думаю о тебе и я дрожу, что ты сделаешь что-нибудь в своей скорби. Ах, мой дорогой друг! Какое горе!»
Я поспешно одеваюсь, думая при этом о деле. Я спрашиваю у Лауры, какой характер носит геморрагия, и она ясно отвечает, что это процесс выкидыша, и что нужно действовать под наибольшим секретом из-за угрозы репутации мадемуазель. Она говорит, что нужно лишь бинтов, и что ничего не будет. Это лишь слова. Едва одевшись, я велю добавить в мою гондолу второе весло, сажусь в нее вместе с Лаурой, направляюсь в Гетто и покупаю у еврея все его белое полотно и пару сотен салфеток и, засунув все это в мешок, направляюсь в Мурано. Дорогой я пишу карандашом моей дорогой подруге, чтобы доверилась во всем Лауре, и заверяю ее, что не покину Мурано, пока не остановится ее кровотечение. Лаура, сойдя с гондолы, убедила меня, что чтобы меня не увидели, я должен спрятаться у нее. Она пустила меня в комнату на первом этаже, заполненную тряпьем, где стояли две кровати. Спрятав под свои юбки все полотно и салфетки, что смогла, она пошла к больной, которую видела накануне в начале ночи. Я надеялся, что она найдет ее уже вне опасности, и мне не терпелось узнать новости.
Она вернулась час спустя, говоря, что та всю ночь теряла много крови, лежит в постели очень слабая, и что нужно поручить себя милости божьей, потому что если геморрагия не прекратится, она должна скончаться в двадцать четыре часа. Когда я увидел белье, которое она достала из-под своих юбок, я чуть не умер. Это была бойня. Она сказала, что не следует бояться за секретность, но значительно больше за жизнь бедной девочки. Странный способ проявить сочувствие, но в тот момент глупость не могла меня рассмешить. Она сказала, что, читая мое письмо, та улыбнулась и, поцеловав его, заверила ее, что когда я вблизи нее, она уверена, что не умрет.
Я содрогнулся, когда эта добрая женщина показала мне измазанную кровью бесформенную массу. Она сказала, что сейчас выстирает это все и затем вернется в монастырь, чтобы отнести больной белье, когда весь монастырь будет за столом.
– Ходят ли к ней с визитами?
– Весь монастырь; но никто не догадывается, что это за болезнь.
– Но, с нынешней жарой, на ней только легкое одеяло и не может быть, чтобы никто не заметил большую массу салфеток.
– Тем не менее, потому что она приподнимается сидя.
– Что она ест?
– Ничего. Ей не следует есть.
Затем она ушла, и я тоже. Я направился к врачу Пейтону, где потерял время и деньги, что я ему дал за длинный рецепт, который я не использовал. Он сделал бы понятной болезнь моего ангела для всего монастыря, да и сам врач должен был бы рассказать о ней в монастыре из соображений осторожности. Зайдя к себе домой за своим несессером, я вернулся в мое убежище, где полчаса спустя увидел очень грустную Лауру, которая передала мне записку К. К.:
«Мой дорогой друг, у меня нет сил писать. Я истекаю кровью и ничто не помогает. Бог наш владыка, но моя честь прикрыта. Мое единственное утешение в том, что ты здесь». Лаура ужаснула меня, показав еще десять-двенадцать салфеток, пропитанных кровью. Она думала меня утешить, говоря, что вместе с книгами их набралось бы с сотню, но я не способен был утешиться. Я был в полном отчаянии. Сознавая себя палачом этой невинной, я не чувствовал себя способным ее пережить. Я лежал оглушенный на кровати, не говоря ни слова, шесть часов подряд, до момента, когда Лаура вернулась из монастыря с двадцатью окровавленными салфетками. Ночь не позволила ей вернуться обратно. Она должна была дожидаться нового дня. Я ждал ее, не имея сил ни заснуть, ни поесть и не позволяя раздеть меня дочерям Лауры, хорошеньким, но внушавшим мне ужас. Они представлялись мне инструментами моей ужасной несдержанности, которая сделала меня убийцей ангела во плоти.