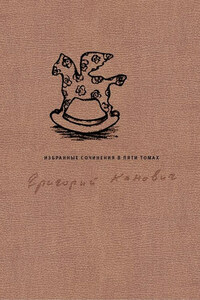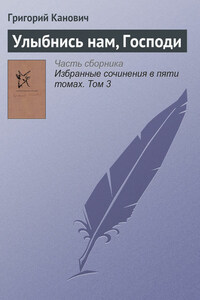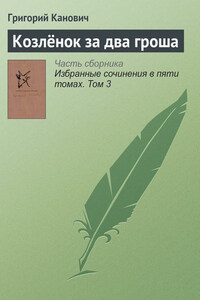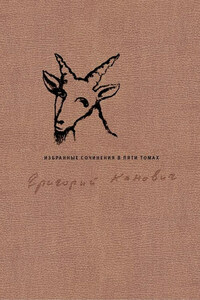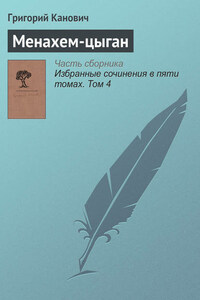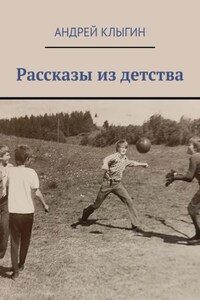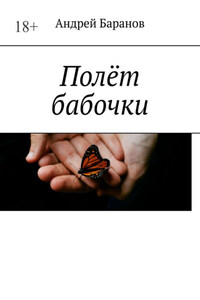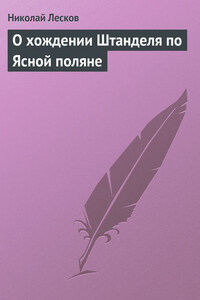Пространство памяти Григория Кановича

На протяжении семи столетий Литва – некогда Великое княжество Литовское – была домом для одной из самых больших и знаменитых еврейских общин. Литовские князья отличались терпимостью и прагматичностью и позволяли жить в своем государстве не только христианам – православным, католикам, а позже и протестантам – а также мусульманам, караимам и евреям. Влияние и авторитет еврейской общины были настолько велики, что когда великий князь Александр, вдохновленный примером испанских «католических королей», попытался в 1495 году изгнать евреев из Литвы, ему пришлось уже через несколько лет отменить указ, и этот эпизод остался всего лишь историческим курьезом. Евреи были движущей силой экономики и в Средние века, и в царской России, и в независимой Литовской Республике. Современные историки считают, что именно евреи послужили тем элементом, благодаря которому в Восточной Европе развилась многонациональная городская культура. Благодаря их активности процветали торговля, ремесла, финансы, разного рода услуги. Они экспортировали лес, лен, пеньку и другую продукцию в Европу по Неману и Западной Двине, и они же привозили в Литву европейские товары и занимались изготовлением местных. Не имея права владеть землей, они арендовали поместья, местечки, леса, мельницы и корчмы, создавая таким образом разветвленную хозяйственную структуру. В свою очередь, Литва также оказала большое влияние на формирование особой «литвацкой» еврейской идентичности. Великое княжество Литовское было одним из самых обширных европейских государств. На пике своего могущества, в XIV–XV веках, оно занимало территорию современной Литвы, Белоруссии, а также части Украины, России и Латвии. В 1569 году в результате Люблинской Унии оно окончательно вошло в состав Польши, однако литовские евреи остались верны своему прежнему отечеству. В еврейской исторической памяти Литва – «Лите» – по-прежнему простирается от Бреста и Гродно до Стародуба и Чернигова, ее границы определяются ареалом распространения литовского диалекта идиша, положенного в XX веке в основу литературного языка. Таким образом, именно язык стал основанием исторической памяти.
Собственно этническая Литва, то есть сравнительно небольшая часть прежнего Великого княжества Литовского в среднем и нижнем течении Немана, имела свое особое еврейское название – «Замут», происходящее от литовского Жемайтия и близкого русскому «Жмудь». Именно отсюда происходят герои романов и повестей Григория Кановича. Подобно Фолкнеру, Канович воссоздал свою воображаемую вселенную, населив этот мир персонажами своего детства – прежде всего, простыми евреями, а также литовцами, поляками, белорусами и русскими. Этот литературный «проект» начался в 1970-е годы с романа «Свечи на ветру» и продолжается до сих пор. У каждого нового произведения – своя тема, свой стиль и характер, но при этом оно примыкает к предыдущим, дополняя и развивая написанное прежде. По своей манере письма Канович – реалист. Действие каждого его произведения происходит в конкретный исторический момент, все детали выверены и точны, персонажи – живые люди из плоти и крови, нередко имеющие своими прототипами реальных людей, знакомых писателю по его жизни. События описаны с убедительной точностью и подробностью, так что никаких сомнений в подлинности происходящего не возникает. И вместе с тем, читателя не оставляет чувство некоторой нереальности. Где и когда все это было? Да и было ли все это на самом деле? И где весь этот мир теперь?
Григорий Канович – наш единственный проводник в тот полностью стертый с лица земли мир литовского еврейства. Конечно, он далеко не единственный писатель, поставивший себе задачу воссоздать еврейское прошлое Литвы. Об этом писали многие авторы, в основном на идише – Хаим Граде, Авраам Суцкевер, Авраам Карпинович. Все они воспевали и оплакивали Вильно, свой «Литовский Иерусалим». Но Канович сохранил для нас и другую Литву. «Замут» имел свой собственный «Иерусалим», одну из самых первых еврейских общин Литвы – Россиены, на идише Расейн, старинный городок, полностью разрушенный во время Второй мировой войны. Россиенский уезд состоял из маленьких бедных местечек, соединенных узкой блестящей лентой Немана и разделенных дремучими лесами. Между этими двумя «Иерусалимами» и находится географическое пространство памяти Кановича. При этом, в отличие от большинства еврейских писателей и поэтов, представлявших Вильно как воплощение самого подлинного еврейства, у Кановича этот город имеет двойственную природу. Это город мечты, «Город городов», притягивающий простых евреев из местечек, но это также и изменчивый «город праведников, женихов и висельников», в котором еврейская память и идентичность постоянно подвергаются разного рода трансформациям – в отличие от местечек Замута, где время практически не движется. Расстояние между двумя «Иерусалимами», большим литовским и малым замутским – немногим более ста километров, но для Кановича и его героев «путь от нашего местечка до Вильно казался таким же далеким, как до Большой Медведицы».
Дело здесь далеко не только в особой культурной географии Кановича. Речь идет об ином взгляде, отличающем его от идишских земляков и коллег. На идише пишут, как правило, про евреев и для евреев, это еврейская литература для своего, «внутреннего» читателя. А для какого читателя пишет про евреев Канович по-русски? Какой литературе он принадлежит – «русскоязычной», «русско-еврейской» или же «русско-литовской»? Сам он однажды высказался по этому поводу определенно:
Я считаю так: нет русско-еврейских писателей, русскоязычных – тем более. Русский писатель, пишущий на еврейские темы, не должен думать о том, к какой литературе, к какой словесности он принадлежит. Если он не принадлежит русской словесности, на мой взгляд, грош ему цена. Если тебя называют русскоязычным, а не русским писателем, то есть тебя не принимают в твоем же доме, значит, ты – никакой не писатель. […] И себя я считаю русским писателем.[1]
Но в отличие от практически всех пишущих по-русски литераторов, русский язык не является для Григория Кановича родным. До войны он говорил на двух языках – идише и литовском, и освоил русский лишь во время войны в эвакуации в Казахстане. Вернувшись в Литву, он окончил филологический факультет Вильнюсского университета, и постепенно занял свое особое место в литературе советской Литвы, представляя в ней как русскоязычное, так и еврейское «меньшинство». Русский язык – «язык межнационального общения народов СССР» – стал основным языком его творчества. Однако в многонациональной семье советских народов евреи занимали особое место. Сейчас иногда можно услышать, что еврейская тема была под запретом в русской литературе (теперь уже не многие помнят, что в СССР существовала и литература на идиш, но она мало интересовала «русскоязычного», в том числе и еврейского, читателя). В целом такое мнение ошибочно, но еврейская тема, как и сами евреи, действительно была на особом положении. Случай Григория Кановича – уникальный, и рискну предположить, что из всех советских республик он был возможен только в Литве, где под «прикрытием» местного Союза писателей можно было издавать книги по-русски на еврейскую тему. В силу своего происхождения и знания языка Канович был «своим» среди литовской интеллигенции, и издание его книг было определенной фрондой по отношению к Москве – во всяком случае, так это виделось из Москвы, где вильнюсские издания писателя практически не поступали в продажу.