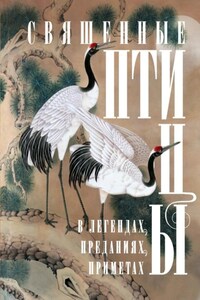Все так живут
Возвращаясь домой из магазина, я держала в руках два огромных пакета с едой.
Мои руки сводило под тяжестью купленного, и я не раз пожалела, что, торопясь на трамвай, забыла дома новые перчатки.
Я пыталась шевелить пальцами, чтобы они окончательно не заиндевели на холоде, но казалось, что у меня не руки, а протезы. Протезы, которые прям сейчас откажут.
В это время я услышала резкий звук. Водитель, отъезжающий с парковки, отчаянно жестикулировал и кричал «дура».
Так оно и есть, он прав.
Я дура.
Взвалила на себя всё и несу.
Иногда радостно, иногда – нет.
А чаще с одной мыслью: «Все так живут!».
А это что значит?
Только одно: все так живут, и мне так жить надо.
Прийти домой, найти там мужа, сидящего за компьютером, рядом – пустые тарелки из-под еды и сетования, что в наше время тяжело найти работу после сокращения.
Поспешить на кухню, увидеть крошки на столе, пустую кастрюлю от борща и засохшую уже лужу с остатками супа.
Разобрать сумки, громко вздохнуть, как бы приняв, что это моя жизнь, что красиво только в кино бывает.
Налить воды, чтоб отварить пельмени, зайти в комнату, увидеть двух сыновей-подростков, которые даже не смотрят на тебя, потому что мать у них давно, а новую версию игры выпустили всего неделю назад.
Подойти, чтоб обнять, но услышать в ответ: «Отойди и не мешай».
Выйти тихонько, закрыв дверь, потому что все так живут.
Где они, эти мужья, дарящие цветы без повода, и дети-гении, открывающие в четырнадцать лет свой бизнес. Где?
Вернуться на кухню, заварить себе чай, присев впервые с утра.
Макать пакетиком вверх-вниз, наблюдая, как он окрашивает воду, услышать от мужа, пришедшего попить: «Жрать когда?»
Резко вскочить, чтоб начать готовить ужин, оставив чай на столе.
Но все, все так живут. Все.
Руки продолжало сводить от холода, пакеты, казалось, разрезали пальцы пополам.
Снова какой-то резкий звук клаксона, удар, резкий удар вбок, боль и небо.
Такое красивое небо.
Боже, как красиво летят пушинки снега: одна, вторая, третья…
Они опускаются на мое лицо, закрывая глаза. Глаза, которые уже не увидят жизнь, жизнь, которой живут все.
Среди мишуры теряется душа
Андрей сидел за столом в центре огромного зала, стильно украшенного к Новому году, и смотрел на парящих под потолком воздушных гимнастов в ярко-пестрых костюмах, а перед глазами стояли мама и ее подружка, тетя Нина, и то, как они, переодевшись в какие-то нелепые платья, завывали, прижавшись друг к другу спинами: «Главне-е-е-ей всего, погода-а-а в доме, а все-е-е другое – су-у-у-у-уета».
И им тогда он, десятилетний, верил, хотя в руках вместо микрофонов были бананы, но пели с такими эмоциями, что невозможно было представить, что главнее может быть что-то другое. В их голосах на надрыве было и про то, что они готовы мириться с мелкими неурядицами, вроде задержки зарплаты, детьми, которые получили трояк за контрольную; готовы любить мужей, хотя они предпочитают посмотреть дома футбол по телевизору, вместо того чтобы хоть раз в год пойти в театр, как «приличные люди ходят».
Но «певицам» маме и тете Нине тогда Андрей верил, они не врали, выступая у елки посреди небольшой комнаты, стены которой были украшены мишурой в виде цифр 1995, и даже на алоэ в углу висели новогодние шары.
Мама с подругой пели, и Андрей верил всей душой в волшебство происходящего, а вот воздушным гимнастам сейчас верить не хотелось вообще.
«Красиво и слажено все делают», – проносилось в голове Андрея, рассматривающего, как они скользят высоко над столами. Скользят только потому, что им заплатили за это.
«А с чего им выступать тут бесплатно, а? Это их работа, – отвечал он сам себе. – Все верно. Им заплатили, чтобы они развлекали бомонд. Или как еще назвать собравшихся тут? Поэтому сиди и пей давай с улыбкой принесенный аперитив».
А гимнасты в это время взлетали, словно дивные птицы, и резко скатывались вниз, и Андрей вспоминал, как они с братом и дочками тети Нины – Машкой и Наташкой – вышли танцевать, как брат поднял Машку вверх, она раскинула руки в разные стороны, и они оба упали на пол у елки, а сверху на них – мамы; как все безудержно смеялись, потому что тетя Нина продолжила петь даже лежа. Она пела в уже раздавленный банан-микрофон «…А все-е-е дру-у-у-гое сует-а-а», и невозможно было не верить в ее «настоящность».
А гимнасты сейчас, вроде с открытыми улыбками, то поднимаются по алым полотнам вверх, то резко падают вниз, но что-то не то.
Кажется, что все! Конец! Сейчас рухнут, но они остаются парить, держась кончиками пальцев за ткань, как за спасательный круг, но при этом нет в них «настоящности», а может, «настоящности» не было просто в жизни уже взрослого Андрея.
– Талантливо, Сонь, – произнес он вслух, а в мыслях продолжил: «Но не душевно, парят, как наши с тобой отношения. Только от того, чтобы «рухнуть», удерживают не пальцы ног, а мое терпение, возможно, мои деньги… и походы по твоему желанию к психологу».
Соня ничего не ответила мужу, она уже обнималась с какой-то блондинкой, от улыбки которой исходило только одно – лицемерие; вернее, модные ныне приспособленчество, называемое networking.
«Интересно, они обе понимают, что улыбаются друг другу наигранно, как герои кино? Или хотя бы у одной из них есть наивная вера в то, что это все вокруг по-настоящему?» – пронеслось в голове Андрея, и он вспомнил, как смачно его обнимал при встрече дед. Он зажимал его в свои руки, будто в капкан – капкан любви – и, громко хохоча сквозь густые рыжие усы, добавлял: «А ну-ка выберись, то зацалую, как малыша». И Андрей выбирался, принимая правила игры.
«Вспомнил чего? – заспорил он снова в своей голове. – То дед твой, родной человек, а тут жена обнимается с незнакомой женщиной. Ты что, предлагаешь им устроить “капкан любви”»?
Андрей улыбнулся сам себе, пока Соня болтала уже с другой девушкой, вроде одетой в платье, а вроде и нет, потому что оно настолько просвечивало все изгибы ее фигуры, показывая, что она без нижнего белья, что становилось немного неловко, и он начал усиленно рассматривать жену в новом платье, которое она специально для этого вечера заказывала у известного дизайнера, выпустившего таких всего пять.
Он смотрел на вырез платья Сони и будто… ему не тридцать семь, а десять, и его мама примеряет изумрудное платье на базаре на картонке у груды вещей, наваленных в бело-синей палетке.
– Да оно же порванное.
– И это где еще? – отпивая чай из термоса, самоуверенно произносит женщина в валенках, толстой бесформенной куртке и шали. – Это модель такая. Вы в моде много понимание?
– Вот же стрелка, видите? – не унимается мама.
– Женщина, не нравится, снимайте, если брать не будете, – доносится ответ, продавец отворачивается, думая, что «тут уже ловить нечего».