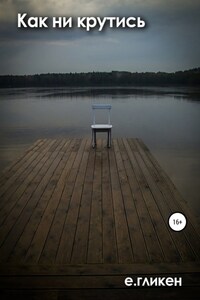С ходом истории процессы глобализации были вытеснены стремлением каждого отдельного государства стать суверенной единицей. Карту перерезали тысячи демаркационных линий, всякий небольшой клочок объявил независимость и неприкосновенность, собственную Конституцию и особый путь развития. Молодые государства проходили результат становления каждый по-своему.
Моя история – о новой стране под названием Картония, новой, но уже окрепшей. Все персонажи вымышлены. Имена взяты привычные мне, те, что на слуху каждый день, и в этом нет никаких скрытых смыслов. Выдумывать новые имена – значит вкладывать в них какой-нибудь смысл, но я не планирую никаких отдельных скрытых или явных смыслов, кроме тех, которые на виду, а для того, чтобы писать про жизнь Элизабет или Джонса, надобно хоть раз повидать, как они живут, а этого со мною ни разу не случалось.
***
Маленькая модная собачонка повизгивала у ног Марии Ивановны. Мария Ивановна, устроившись на самом краю резного кресла, глазами, полными слёз, следила за мужем. Ласточкин мерил шагами просторную залу.
– Золото спрячь, – загибал он пальцы на руке. – Бумаги отдай Федотову, он знает, что с ними делать. Сержанту заплати, он пропустит, я договорился. И самое главное, запомни, ни при каких обстоятельствах не сболтни о золоте: ты знаешь только про бумаги, а где остальные деньги молчок, ты просто жена – и всё, а какие я там делишки кручу-верчу, ты знать не знаешь. Поняла?
Ласточкин резко остановился и строго поглядел на жену. Та зашлась в рыданиях.
– Ну, будет, будет, Маша! Ну, дети же, ты посмотри, зачем ты так? Ведь мы всё знали. Знали же?
В комнату, и правда, заглядывали двое белобрысых пухлых детей.
– Ну, ты посмотри на них, – Ласточкин указал на сыновей. – Посмотри, какие у нас дети. Разве это того не стоило? Мы сыты, обуты, одеты. Дети учатся в престижной школе. Маша!
Мария Ивановна выбежала из комнаты.
– Не хочу! Не хочу! – выкрикнула она.
– А что хочу?! – рассердился Ласточкин. – В нищете, как все? Так хочу? Что ж ты сразу не сказала-то? Вот тогда, сразу, лет пять назад, так бы и сказала. Нет, Маша! Тогда ты была не прочь пожить на широкую ногу. Машину, собаку… Маша!
Ласточкин наконец настиг жену в гранатового цвета, обшитой бархатом прихожей и обнял, прижав к себе крепко-крепко.
– Маша, но ведь, может, всё обойдётся?
Мария Ивановна ударила его обеими руками и снова потонула в беззвучных рыданиях.
– Машенька, но ведь мы, мы же, может быть, – словно выдавливал из себя слова Ласточкин. – Ведь мы, Маша, может, и последний раз… видимся.
Он задержал дыхание, чувствуя, что и сам сейчас готов разрыдаться. Готов, как мальчишка, забиться в самый дальний угол квартиры и нипочём не выходить оттуда. Спрятаться, бросить всё. Выйти из дома и больше не возвращаться. Напиться вдрызг… Не получится. Там, за углом, если не сразу в подъезде, поджидает снайпер, а, может, и пацаны с кастетами, кто знает, на что хватило фантазии у конкурентов. Может, напиться сразу в подъезде и заснуть? Пусть делают, что хотят, лишь бы не будили…
– Коля! – Мария Ивановна обвила шею мужа руками. – Коля! Не ходи!
– Маша, ну, как не ходи?.. Я должен…
– Никому ты ничего не должен! Коленька. Останься. Через неделю все это закончится! Коля!
– Но ведь они ворвутся сюда, Маша… И дети увидят, ты только подумай…
– Пусть! Пусть!
– Нет, Маша, так нельзя. Пусть дети растут. Ты знаешь, я, признаться, горжусь собой. Я обеспечил им, – тут Ласточкин немного замешкался. – Обеспечил вам хорошее будущее. Прекрасная квартира, тебе не надо работать больше никогда, денег – куры не клюют. Да, нечестно… Да, Маша! Да! А как? Как, я тебя спрашиваю, ещё можно в нашей стране стать богатым? Диссертацию написать? Изобрести лекарство от рака? Нет, Маша, только грабёж. Грабёж, Маша, да! Да, я обворовываю таких же нищих, каким был сам. Да, но… Но ведь все так. Кто имел возможность, все так, Маша! Кто не так, просто у них нет такой возможности. У сержанта золотой унитаз, мы хотя бы до этой пошлости не опустились… Я смог, Маша, я смог обеспечить себя и свою семью, я мужик. Не хлюпик, не нытик, не бухаю во дворе на скамейке. Разве ты плохо жила до этого проклятого момента?
– Коля, а ты вспомни? Помнишь, как мы к Богомольцеву ходили? На третьем курсе? – Мария Ивановна улыбнулась сквозь слёзы. – А ты зачёт ему с первого раза сдал, помнишь? Мы праздновали! О, какие у нас были праздники. До сих пор запах, когда варится картошка, мне напоминает праздник. Мы тогда раздобыли свиные рёбра где-то по дешёвке, варили их, варили…
– А, знаешь, я заходил к Богомольцеву, – перебил её Ласточкин. – Я не говорил тебе, тогда это казалось несущественным. Сейчас почему-то вспоминаются всякие глупости. Говорят, перед смертью вся жизнь пробегает…
Мария Ивановна снова зашлась слезами. Она сползла по стене на пол и рыдала прямо в прихожей, свернувшись в позу эмбриона.
Ласточкин сел рядом:
– Знаешь, он тогда рыдал…
– Кто? – отняла руки от лица Мария Ивановна.
– Богомольцев рыдал. Как ребёнок. У него, знаешь, Маша, такие кулачки сухонькие, маленькие, почти детские, ведь он совсем старик тогда был… Он этими кулачками себя в грудь бил и плакал.
– Когда же это было?
– Когда он ушёл с кафедры политологии. Я заканчивал пятый курс, думал над темой диссертации. Не говорил тебе, мы и сами концы с концами еле сводили, набрал подарков и – к нему. Ведь он единственный преподаватель был, который заставлял нас учиться. Никого не пропускал просто так ни за какие деньги, ни за связи. Ну, вот я и решил его отблагодарить уже потом, когда это не будет взяткой. Накупил конфет, котлет, овощей, фруктов, что там у него на пенсию-то, не разгуляешься ведь. И с сумками – к нему. Знаешь, о чём он жалел?
Мария Ивановна удивлённо захлопала глазами.
– Что взятки не брал. Понимаешь, Маша? Даже Богомольцев. Он один для меня был такой. Настоящий. Я держался, кажется, только благодаря ему. Верил, что честно прожить можно, Маш! А от Богомольцева вышел, и всё – вокруг другой мир. У него квартирка маленькая, обои старенькие, краны текут, а кругом книги, книги… И в середине всего этого плачет старик. Маш, я ведь тогда всё решил: будет шанс – ухвачусь. И ведь именно тогда этот шанс мне жизнь и подарила. Или чёрт подкинул, теперь не разберёшь…
– Что ты имеешь ввиду? – озадаченно проговорила Мария Ивановна…
– Понимаешь, я вышел от него, как в другую жизнь. Всё, абсолютно всё, во что я верил пропало, исчезло. Всё, чем я гордился, вся эта наша принципиальность и нищета, всё это стало стыдно, нелепо! И тогда мне на глаза попалась эта передача. Вечером. Меня такая злость тогда разбирала. Богомольцев – столп политологии, вся кафедра на нём держалась, он один науку держал, и в такой нищете. Он в нищете, мы в нищете, люди вокруг все злые, как демоны. Я раньше не понимал: они от безысходности хмурые такие, Маш. У них в жизни ничего не будет, понимаешь? Работай не работай, всё одно – нищета. А запить, так всё быстро пройдет, у них никакого света нет, нигде надежда не брезжит, понимаешь? Все эти честность, профессионализм, принципиальность, порядочность, Маш, всё это – дорога вникуда. И по телевизору эти сытые довольные хари. Маш, мы все знаем, отчего они сытые…