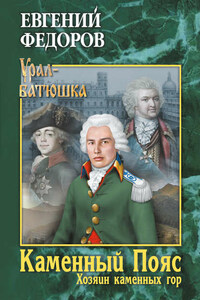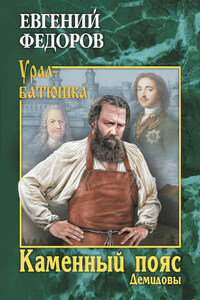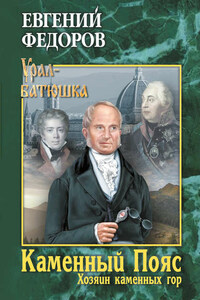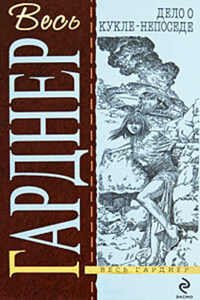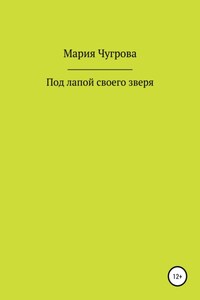1
Никита Акинфиевич Демидов – могущественный владетель Нижнетагильского, Каштымского, Кяслинского и многих других уральских заводов – находился в зените своей славы и богатства. Царствующая императрица Екатерина Алексеевна не оставляла заводчика своим вниманием. Обладая несметными богатствами и недюжинным умом, уральский магнат играл роль просвещенного вельможи. Подражая своей покровительнице государыне, он вел переписку с французским философом-энциклопедистом Вольтером на вольнолюбивые темы.
В этот памятный теплый летний день Никита Акинфиевич, грузно развалясь в кресле на широкой террасе своего нижнетагильского дворца, писал очередное письмо пребывающему в изгнании фернейскому мудрецу. С террасы открывался безбрежный зеркальный пруд с островками, покрытыми яркой зеленью тенистых дубрав, приятных освежающей прохладой. Леса, просторы, гребни Уральских гор – все вдали покрывала легкая сиреневая дымка. На лоне светлых вод под жарким полуденным солнцем плавал большой сверкающий снежной белизной лебедь. Где-то на островке неожиданно раздался выстрел. Встревоженный лебедь приподнялся над водой и замахал широкими серебряными крыльями. Среди брызг пены он шумно, на весь пруд, как мифический Пегас, быстро-быстро побежал по воде, наконец поднялся, сделал плавный круг и потянул вдаль, роняя звонкие клики. Он поднимался все выше и выше и, как чудесное видение, вскоре растаял на фоне пухлого облака. А над прудом все еще звенели, угасая, его стонущие крики.
«Эх, подлецы, напугали птицу!» – недовольно поморщился Никита Акинфиевич и прислушался к заводским глухим звукам.
От пруда веяло живительной прохладой, над просторами вод, поблескивая крылышками, летали стремительные стрекозы. День был напоен солнцем. Поблизости, на садовой дорожке, дрались неугомонные воробьи. На дубовом паркетном полу колебались ажурные тени, падающие от густого хмеля, укрывшего террасу. Без парика, но в атласном голубом камзоле, седеющий Демидов склонился над письмом.
«Просвещеннейший учитель, – медленно, с тяжелой одышкой писал он, – все дни мои занимают мысли о человеческом достоинстве и свободе человеческой личности. Из священных писаний и токмо из отеческих преданий поведано, что человек создан по образу и подобию божьему. Не токмо великие вельможи, но и крепостной раб имеет равную душу, и потому…»
Никита Акинфиевич вздрогнул: кто-то осторожно позади кашлянул и обеспокоил хозяина. Заводчик отложил перо и взволнованно оглянулся. У двери стоял приказчик Селезень. Он давно уже тихо пробрался на террасу и, стоя за креслом хозяина, зорко следил за каждым его движением. В пронзительных мрачных глазах приказчика была тревога. Когда-то бравый Селезень, проворный и видный молодец с цыганским лицом, теперь подсох, ссутулился, поседел. В этом былом красавце угасало все, но с годами он стал еще злее и рачительнее к демидовскому добру.
– Ты что? – встревоженно взглянул на приказчика Никита Акинфиевич. – Что тебе надобно?
Селезень переминался, поскрипывая сапогами, не решаясь что-то сказать хозяину.
– Говори, холоп, что стряслось? – грозно насупился Демидов.
– Плавку передержал мастерко Иванко, все порушилось, – сдержанно вымолвил Селезень.
– Черт! – вспыхнул и налился багровостью хозяин. – Что же он думал, пес? Наше добро переводить осмелился, лукавый!..
Тяжелой поступью Демидов прошелся по паркету. Дышал он прерывисто, с посвистом. Лицо стало сизым от прилива крови, по жилам так и расходилась злость. Никита Акинфиевич не сдержался, поднял большие кулаки и, наступая на приказчика, зарычал:
– Забить подлого за такое дело! Забить! Положить на горячую плиту и хлестать плетями. Пусть знают холопы, как надо беречь хозяйское добро!
Он хрипел, отдувался, каждая жилка в его большом дряблом теле трепетала от раздражения. Почуяв сильную грозу, Селезень учтиво поклонился и, скрываясь за дверью, выкрикнул:
– Постараюсь, хозяин!
Приказчик исчез так же быстро и неслышно, как и появился.
Демидов знал, что приказ его выполнят точно и безжалостно, но мысль об этом не принесла успокоения. Еще с утра его томила тяжелая тоска, кружилась голова и что-то давило на темя, покрытое реденькими седыми волосами. Раздражительность все больше овладевала им. Шаркая ногами, он утомленно заходил по террасе. Серые мешки под его глазами набухли, прорезались сетью глубоких морщин. Он смотрел на серебристый пруд и огорченно думал:
«Ох, горе! Как быстротечна жизнь, словно талые воды! Красота и та меркнет от неумолимого времени! Неужели пришла старость?»
Цепкими сухими пальцами он схватился за балясины перил и жадно задышал свежим прудовым воздухом. Однако ни свежесть, ни сияние радостного летнего дня не могли успокоить дряхлеющего тела. Все продолжало клокотать в нем. Никита Акинфиевич пытался овладеть собой, но не смог погасить вредного волнения.
Сколько прошло времени, он не помнил. Ему казалось, пролетела вечность. Напряжение, которое держало его тело и мозг, достигло невероятной силы. Он возбужденно поглядывал на дверь, прислушивался к звукам на дворе, но кругом было тихо.
«Что же так долго не слышно крика? Почему не возвращается Селезень?» – обеспокоенно подумал Демидов.
Тусклые глаза его скользнули вдоль аллеи, убегавшей от террасы в глубину сада. Окаймленная цветущей сиренью, она манила прогуляться. Укрытые пышными душистыми гроздьями цветов кусты казались лиловыми.
Старый, густолиственный, совершенно запущенный сад с тенистыми дорожками, с дремучими зарослями одичавшего кустарника, сколько грустных воспоминаний навевает он сейчас! Вот прямо от ступенек террасы круглый бассейн, наполовину покрытый зеленой ряской. Подле воды, на низком гранитном пьедестале, белеет нестареющая статуя козлоногого сатира. Сколько в нем дикости, силы и страстности! Он стоит, скрестив на косматой, с выдающимися ключицами груди худые руки. Большой жадный рот с толстыми чувственными губами искривлен от желаний, а выпуклые, навыкате глаза нагло и дерзко смеются.
Да, когда-то в этом парке проходила иная жизнь, и тогда он, Демидов, был молодой и сильный. А сейчас он очень походил на покойного дядюшку Никиту Никитича! Тот же злой, волчий взгляд, высокомерная брезгливость к окружающим и такая же прорва жестокости.
Никита Акинфиевич, опираясь на суковатую палку, спустился к бассейну. Повеяло прохладой, легкий ветерок рябил тихую воду, и в ней, в зеленой глубине, сверкало отражение сатира. Оно слегка покачивалось на воде, и Демидову казалось, что живот и грудь козлоногого дрожали от беззвучного смеха. Никите стало не по себе, и он обеспокоенно оглянулся на статую.