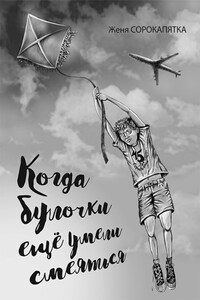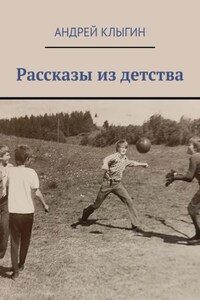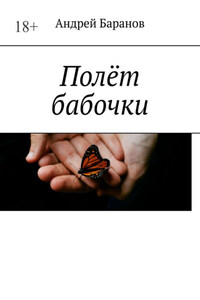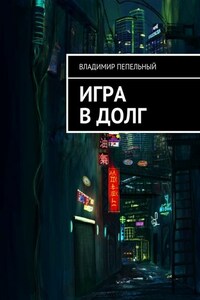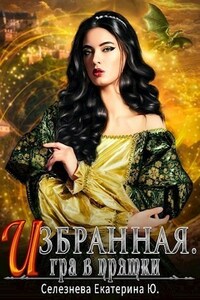Пневмония. Есть кто что. Именительный падеж
Бумаги на госпитализацию заполняли нестерпимо долго. Врачиху интересовало буквально всё: от первых болезненных симптомов до наличия домашних животных у меня в квартире. Очень скоро я уже не отвечал на вопросы истязательницы в белом, а сбивчиво выталкивал слова через свой болезненно-изломанный рот: прерывисто, путано, задыхаясь. Казалось, весь кислород в кабинете с табличкой «Приёмный покой» кто-то издышал задолго до моего прихода, а того воздуха, что мне оставил, – хватало лишь на то, чтобы с присвистом гонять его в себя и из себя, словно после изнурительного бега. Как-то само где-то внутри меня глупо пошутилось: «Господи! Не упокой в приёмном покое душу раба Твоего».
Наконец-то после моего бормотания о полной переносимости всех лекарств и как вывод после моего пришепётывания о том, чем болел и в какие года, в первый раз и прозвучало это слово – «пневмония». И тот час же внутри меня кто-то очень захотел поумничать: «Пневмония. Есть кто что. Именительный падеж». Потом это слово всплывало ещё много-много раз: в торопливом монологе лечащего врача; в утреннем отчёте одного дежурного эскулапа заступившему другому; в вариации «пневмАния» из-под клавиатуры у торопливой медсестрички; в сочувствующем монологе соседа по палате. А ещё в первых строках истории моей болезни, в больничных выписках, в направлениях и рецептах, что потом многажды шелестели в моих руках.
…Пытки-расспросы всё же закончились. Истязательница в белом наконец-то бросила в подсобку с кучей медсёстер свой лаконичный приговор: «В пульму!». И вскоре меня, трясущегося, с дичайшей одышкой, с пеленой перед глазами доковыляли в отделение пульмонологии.
Больничная палата с категоричной табличкой «Для ветеранов войны» встретила тремя «ветеранами»: сочувственно-настороженным Сергеем Ивановичем возраста чуть за 60, ну, это когда время коленистых трико-обязательно-в-носки и засаленного паспорта-всегда-в-нагрудном-кармане; подчеркнуто похуистичным крепышом за 50 с прокуренным голосом и инициалами «Е. А.» на листочке-направлении в физиокабинет; двадцатипятилетним (?) астматиком-матершинником Антохой с огромным запасом «Балканки» в мягких пачках и к чертям поправшим все мыслимые запреты лечебного учреждения лёгочного профиля.
Стоять я больше уже не мог… С размаху ухнулся на указанную мне спасительную кровать и убился о доски. Взвыл всем своим: исхудавшим от долгой температуры телом, костлявой задницей, изломанной поясницей. «Это у всех у нас так. Без досок иначе жо-пой до полу провалишься», – понимающе пояснил Сергей Иванович, и сочувственно брякнул своими кроватными деревяшками.
Да и пусть доски, подума лось… Пусть хоть ещё и гвозди со стеклом. Это не помешает мне лежать эмбрионом и трястись в ознобе. Мне сейчас уже ничто не помешает. Вот бы ещё убавить громкости Антохиному монологу про то, как хуёво, когда у тебя пневмония. («Хули, я чо ж, я не понимаю што ли, это ж пневмония, вот и хуёво тебе, это не какая-то астма, с астмой так хуёво не бывает, пневмония – очень хуёвая вещь, видно же сразу.»).
* * *
Больничные беседы не подразумевают реверансов перед новичками. В отличие, например, от вагонных. Там, пока новый пассажир не застелет свою кровать, не напьётся чаю и не проедет пять станций, вопросами его пытать не начинают. В больнице же берут с места в карьер и разделывают под яйцо с первых минут заселения, ведь тут всякий новичок – как глоток свежего воздуха в душной палате. Или пучок хвороста для тлеющего костра: вспыхнул и скорчился, а всем вроде хорошо стало.
Но пришла медсестра: «Щас буду подключать к кислороду». Вставила в мой нос две трубки – это и значило подключение. Сколько раз я видел в кино эти трубки! Когда израненный герой мечется на больничной койке, взнузданный такими вот трубками, и все зрители ждут: будет ли ему исцеление, или же спасение – это про другого? А я задыхаюсь… Хотя в носу свистит трубочный кислород, но и его уже становится мало, а чтобы было пусть не с избытком, но хотя бы в самый раз – обязательно нужно сосредоточиться на процессе дыхания, и дышать вдумчиво, считая вдохи-выдохи, чтобы воздуха стало достаточно.
А медсестра о своём: «Понятно?! Я кому вам говорю?! Эй, мужчина!»… Значит, инструктаж закончен. Сестричка ушла с многолетней уверенностью: и этот помучится да научится. Но пому-читься-поучиться у меня не получилось. Сразу с расспросами накинулись соседи по палате. Нормы приличия и скромности «ветераны войны» отмели сразу: «Не куришь, што ли? Ну?! И не бухаешь? Ваабще??! Ни хуя себе!!! Чо-то вырезали, што ли?». Где-то на десятой минуте расспросов про детей и женат-не женат им уже расскажи, и подробнее бы. Пятнадцатая минута, и уже: «Кем работаешь? Предпринимателем? Бля! И сколька денег выходит?». На двадцатой минуте жестом показываю – мне необходимо взять тайм-аут, мол, «задохся я что-то, хреново мне».
Минутная передышка, и снова трудно отвечаю. Что – верующий, скорее всего; да точно верующий, и ещё двумя-тремя фразами отбиваюсь – насколько верующий. Сергей Иванович в ответ вдруг довольно охнул и подсел поближе, смузицировав жопой на кроватных досках: «Я вот чо понять хочу.». Что ж, собираю остатки своих сил, обнимаю кроватную душку и принимаю позу «посидим-поговорим». Кособоко, криво, надсадно, но – сижу. Сергей Иванович достал из паспорта ламинированный образок, опоясанный ниткой с грошовым крестиком, ткнул пальцем в свою тумбочку с тремя иконками в рядок, какими комплектуют отечественные автомобили вместо подушек безопасности, и убийственно обстоятельно начал монолог: «Это я их здесь купил! Я вообще-то в душе верующий… Но в церкву не хожу. А тут захотелось сходить. Но при больнице церквы нету. А в других больницах, говорят, есть свои церквы. Тут бы тоже надо церкву. Я бы сходил в такую. Постоял, поглядел, может помолился бы… Скажи, а какие молитвы надо знать?».
Поправ важность духовной темы, что я мог сказать на это по-детски назойливому Иванычу? Лишь одно: что не до православных бесед мне сейчас. Ну ни хрена не до христианского ликбеза! Что мне сейчас просто невыносимо больно, что трудно и даже невозможно надышаться, что считаю каждый вздох, что кислород из трубочек, кажется, продлевает мою жизнь лишь на йоту… Что хуево мнеее!!! Но глаза этого неуместного старика сейчас так близко, и уже не могу отказом плюнуть в них. Бодаю горячим лбом холодную кроватную душку, держу спасительную паузу и вдруг отчётливо, разборчиво, живо представляю Иваныча у алтаря. Он в трико-в-носки и незнакомо озирается в поисках, у какой бы иконы ему приткнуться, и приткнувшись у первого попавшегося образа, потом пришёптывает всякую придуманную им же ерунду и неумело крестится, постоянно тычась щепотью в свой паспорт в нагрудном кармане рубахи. «Пыш-пш, тряск-тряск…» – говорит паспорт под щепотью. Мне становится противно от собственной сентиментальности. Но при этом понимаю, что я немедленно должен отвечать на вопрос, очевидно важный для Иваныча, сейчас же должен и непременно. И я начинаю ему хрипеть что-то про важность утреннего и вечернего «Отченаша»…