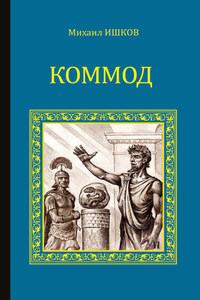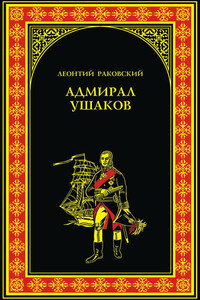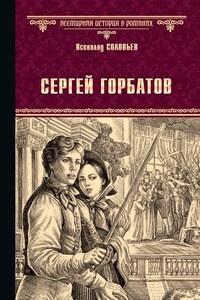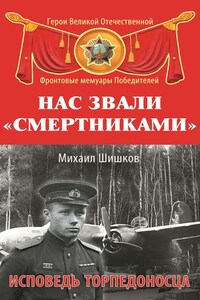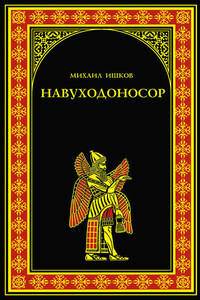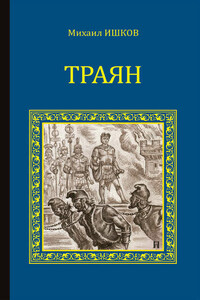Осенью электропоездом возвращался домой и неожиданно, сразу после Царицына, ужас пробрал до оторопи, до оцепенения, до невозможности выйти на нужной остановке – так и проехал родную станцию, не в силах избавиться от навязчивого жуткого бреда, донимавшего меня в те минуты.
Я размышлял об императоре Цезаре Луции Элии Аврелии Коммоде Антонине Августе – таково его полное коронное имя. (Правда, за время правления он четыре раза менял его, что тоже в некоторой степени характеризует нашего героя.)
О сыне несравненного Марка Аврелия Антонина, о кончине которого, по словам Эрнеста Ренана, до сих пор скорбит всякий живущий на Земле.
Об отпрыске «философа» на троне, столько сделавшего, чтобы все люди наметили тропку к согласию.
Эта книга, заказанная в продолжение предыдущего романа о Марке Аврелии, постоянно ускользала от меня. Уже и договор был подписан, и материал собран, но не лежала душа после деяний великого отца описывать мерзости сына. Пусть имя Коммода и не внесено в список первостепенных исторических мерзавцев, пусть по изобретательности, по расчетливости, по умению оправдывать свои поступки некими «высшими» соображениями, как то «интересы государства», «необходимость сохранения в чистоте отцовских верований» и прочее, ему далеко до подобных «профессионалов», – у знающих людей даже упоминание его имени способно вызвать в душе странное беспокойство, неясную, связанную с неосознанным жутковатым смешком тревогу. Я прикидывал, чем же Коммод отличался от Нерона, Калигулы, Каракалы? Что объединяет его, например, с ассирийскими царями, Цинь Ши Хуанди[1], Иваном Грозным, Гитлером, Тамерланом?.. Другое дело, что в этом ряду вряд ли отыщется более простодушный, даже в каком-то смысле наивный и глуповатый губитель соплеменников, чем Коммод, однако зверства, совершаемые «по недомыслию» или «из простодушия», не становятся менее зверскими. Даже наоборот – в этом случае зло приобретает некий насмешливо-мистический оттенок, неподвластную разуму власть, оборачивающуюся ночными кошмарами и бредом наяву. Тогда и начинаешь всем существом своим, каждым нервом ощущать хохот богов.
Начинал Коммод неплохо – малый был видный. Наружность его благодаря высокому росту, стройному телосложению и красивому, мужественному лицу была привлекательна.
Был он вполне прост и к государству испытывал самый обычный, вполне шкурный интерес, как, впрочем, и многие из нас. К окружающему и окружавшим Коммод относился так, как страдающий привычкой грызть ногти обращается с этими, порой очень красиво оформленными роговыми наростами, – исключительно потребительски.
В тот вечер в поезде меня как раз донимал не дававший покоя вопрос: какое мне дело до Коммода? Какое дело до его убийств и прочих злодеяний моим современникам и читателям?
Что же это за роман? Очередное изложение набора случаев со смертельным исходом, описание их виновника и последовавшего в конце наказания?
Уже дома, переболев подобными видениями, наткнулся на удивительное место у Метерлинка. Последние годы второго века от Рождества Христова, время царствования Коммода Антонина, вмиг оформились в целостную художественную ткань, ценность которой могла бы заключаться в описании самой атмосферы, оценке духовного стандарта римского общества, в своей любви к кесарям все ниже и ниже опускавшегося в бездну.
Как раз описание этого царства ночи, особенно после последних, светлых и ласковых деньков Золотого века, показалось мне весьма злободневной задачей.
Часть I. Бог, царь, герой
– Госпожа Ночь, позвольте задать вам вопрос?
– Сделайте одолжение…
– Куда бежать в случае опасности?
– Бежать некуда. Куда уж бежать?..
Моррис Метерлинк. Синяя птица
Если человек упорно отрицает совершенно явное… нелегко найти довод, которым можно было бы переубедить его.
Это происходит не от его силы или бессилия доказывающего.
Если человек окаменел во внушенном ему, на него невозможно воздействовать доводом.
Окаменение двояко: окаменение умственной способности и окаменение способности поддаваться воздействию, когда человек упрямо не желает ни признавать очевидное, ни отказываться от противоречий. Однако мы в большинстве своем страшимся телесного омертвения и на все готовы ради того, чтобы не оказаться в таком состоянии.
Что касается души – до ее омертвения нам нет никакого дела.
Эпиктет[2]
Из письма стихотворца, автора популярных комедий-мимов и эпиграмм, Постумия Тертулла, сосланного в Африку, Бебию Корнелию Лонгу Младшему, легату III Августова, Испытанной верности легиона:
«…возможно, мое повествование показалось тебе печальным, но, Бебий, не придавай значения словам погруженного в меланхолию поэта. Это всего лишь распевы чувств, а разум мой ясен и жив и, в отличие от прежних лет, ищет утешение в возвышенном. И, поверишь ли, находит!..
Пишу стихи. Хорошие, мне нравятся… Живу просто. Домик у меня уютный. Невелик, правда, размерами, а садик?..
Ежели в этом саду ты поставишь наземь ведро из колодца,
Негде будет стоять тебе самому.
Часто вспоминаю тебя и Лета. Теперь вы в больших чинах. Не с руки ли подсобить бывшему заговорщику, присягнувшему, как и вы, на верность Венере, вернуться в Рим? Не пора ли замолвить за меня словечко перед императором?»
Из письма Бебия Корнелия Лонга Младшего, легата III Августова, Испытанной верности легиона Тертуллу, стихотворцу, сосланному в Африку за участие в дерзком похищении рабыни Марции. Похищение затеял бывший хозяин Марции, Бебий Лонг Младший:
«…на шестнадцатый день до апрельских календ, в 933 году от основания Рима (17 марта 180 года), случилось страшное. Император Марк Аврелий Антонин скончался от моровой язвы (чумы), вновь посетившей северные провинции империи.
Все началось, как я тебе уже рассказывал, позапрошлым летом, когда император решил окончательно приструнить поднявших голову варваров[3].
Он прибыл в Сирмий, где на преторий был собраны все члены военного совета Северной армии. Должен признаться, что, увидев наконец императора, все мы были удручены случившейся с ним переменой.
Помнишь ли ты Марка? Конечно, помнишь, ведь с того несчастного дня, когда тебя, Тертулл, Лета и меня разослали в ссылку по разным провинциям, прошло всего семь лет. В ту пору величайший из цезарей представлялся долговязым цветущим мужчиной с хитринкой в глазах. Он был румян (в его-то годы!), без всяких видимых усилий справлялся с делами, власть держал крепко. На этот раз перед нами предстал глубокий, я бы сказал дряхлый, старик. Однако уже через несколько дней мы, его соратники, общаясь с ним запросто, как и прежде без проволочек, обнаружили, что если бремя забот действительно сумело обессилить его плоть, то с его духом оно ничего поделать не смогло. Марк был все так же бодр, разумен, прост. Был склонен к шутке. Только мысль о своем наследнике Коммоде омрачала его думы. Он не скрывал от нас тревоги.