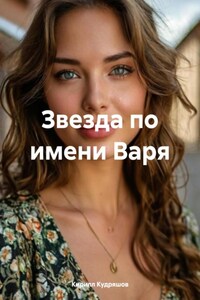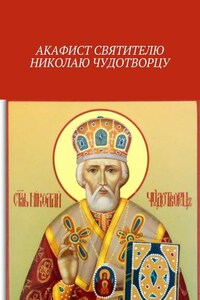Тебя ведут милосердные и мудрые Руки Господни сквозь ужас и тьму, и конец уже виден твоей беде.
Ирбис1
Я любил это время, – четыре пополудни, когда не день и не вечер, когда еще так упруго, – и вдруг: первая усталость; и пока солнце, а уже под горку. И мы с Цаплей плечом к плечу опрокинуты напряженными спинами на лавандой отдающий плед прокрустова ложа, где всегда много или мало, и никогда так, чтобы. И паутинка трещинок на потолке, и башня-истукан в немытом окне нависает над нашими друг другом утомленными, последней декады молодости телами, словно всё-всё наперед знает и зачем-то (кто просит?!) сказать хочет: ничего до вас не было, но всё теперь – будет.
***
Странное непонятное и не испытанное никогда прежде чувство всякий раз входило в меня на последней стометровке тоннеля перед кольцевой станцией «Проспект Мира». Ненасытная жаждавшая движения застоявшаяся толпа выносила меня из гильотины дверного вагонного проема. Я взбегал по лестнице перехода, каждую секунду торопясь и каждое мгновение сдерживаясь. Если поезд на радиальной уже ждал меня у платформы, я играл в странную игру: дождется он меня или закроет двери перед носом. Загадывал, одновременно ничего не загадывая. Потому что боялся не угадать.
Если же поезда не было, шел вперед, туда, где остановка самого первого вагона. В поезде никогда не садился, пусть даже вагон был совсем пуст. Конечно же, я знал, что мне нужно в последний, но все равно: шел в первый, чтобы потом, когда промелькнет за мутным стеклом людского аквариума «Рижская», не спеша подойти к двери и выйти: не так, прыжками и в спешке, как было принято в обтекавшей меня уже чужой жизни, – но плавно, без торопливости. Знал: так возвращаются в порт приписки морские волки, – туда, где ждут, и ничего и никогда не случится на свете, чтобы перестали ждать.
Из преисподней «Щербаковской» возносился трапом вибрирующего эскалатора, пытливо изучаемый бледными лампами дневного света, в лицо бросающими вопросы, – «ты куда?», «зачем?», «уверен?», – в раздражении кривя губы, не удостаивая ответом; поднимался в гул, шорох шин и пряный выхлопной аромат проспекта Мира, чтобы: крепче замотать шарф, застегнуть пальто, затянуться первой, после долгой дороги самой вкусной дымной затяжкой, заскочить в автомат, хрюкающим холодным диском набрать номер, выдохнуть короткое как счастье – «иду!» – в пахнущую эбонитом тяжелую трубку, и тут же нырнуть в переход, – туда, на другую сторону всего сущего: где гавань, где причал, где конец пути, где исполинскими бакенами три кирпичных куба. И в одном, среднем, под самой гудронной крышей, горят для меня три окна.
Так заканчивалась пятница, бесшовно смыкаясь с входящей в мир субботой полотном нескончаемой обжигающей зимней ночи, до краев наполненной терпким венгерским вермутом со льдом – «Ха! Да ты только прикинь, Стешик, «Мартини» в «Березке» за валюту, а тут все то же самое, в винном на той стороне, и никто не брал, а я одна такая была эстетка!», – и ванной с душистой пеной, и медленно убывающей, то и дело тухнущей, кубинской сигарой из магазина «Табак» на Комсомольском, но прежде всего – тобой.
Тобой, моя нежданная, невероятная, неповторимая Цапля.
***
– Там телефон… Стеш, трубку сними. Который ча-а… – зевает, – час?
– Девять. Лень… Меня же здесь нет. Мне некому сюда звонить.
– Степан! Сте-е-ша! Не занудничай! Сними!
– Гх-м… Э-э-э… Сейчас встану. Ал-лё! А-а, дарова. Даю… Цапля, тебя.
– Кто?!..
– Дерюгина.
Сразу все метр двадцать два босых цаплиных ног шлепают в мою сторону по холодному полу. Меня обдает теплом. Отдаю трубку. В два прыжка оказываюсь снова на диване, ввинчиваюсь обратно под теплое одеяло. Исподтишка любуюсь: Цапля у двери, чуть сутулясь, левой держа трубку, что-то воркует с Дерюгиной, правой – хулиганка! – почесывает неимоверной красоты задницу, при одном виде которой в неверном еще утреннем свете свежего января с меня слетают последние остатки крыши.
Приподнимаясь на локте:
– Трубку положь! Положь труб-бку! Иди сюда! Ко мне – шагом мар-р-рш! – бешено вращаю глазами, словно довлатовский «абанамат». Кладет. Смеется. Идет. Утро снова оборачивается ночью.
***
– Чего ты так с Дерюгиной возишься? Она еще раньше позвонить не могла?!
– Дурак что ли?! Она моя подруга!
– Давно?
– С первого класса.
– Не знал.
– Теперь будешь знать. Ты ведь тоже – мой друг. Или нет?..
Все пошло-поехало в середине декабря. У Вольфсона был день рождения. Тридцать шесть. Старший товарищ, тас-сзать. Начали традиционно после вечернего обхода, в ординаторской, потом перекатились к нему в берлогу в Тропарево. Вроде как много и не пили, но было весело. Как-то незаметно стали появляться барышни – я их не запоминал. Последней пришла Дерюгина, оказавшаяся бывшей Вольфа. Она-то и привела с собой Цаплю.
Час ночи или около. Метро закрыто. Пошли толпой, ловили мотор. Поймали «двадцать четверку», универсал. Нас – пятеро. Водила раскладывать третий ряд отказался, сказал, спинка сломана. Пришлось мне и Цапле лезть поверх багажной полки. Там жестко и скользко. Чтобы не мотало, обнялись. Кто ж тогда мог знать…
– Стеша, я тощая?
– Ты не тощая. Ты изящная.
У нее пунктик. Хотя… – а что бы я на ее месте?! Сто девяносто. Сто девяносто долбанных сантиметров роста, и какая-то зависимость: «я тощая?». Да не тощая ты. Ты просто длинная. И красивая. Как никто.
– Стеша, пусти.
– Я не держу.
– Врешь.
Конечно, вру. Не держу. Держусь.
– Я вчера хвосты купила.
– Чего-чего?
– Хвосты. Бычьи хвосты.
– Зачем?
– В мясном, рядом с типографией, выбросили.
– Зачем?
– Что зачем?
– Цапля, зачем ты купила бычьи хвосты?
– Мяса все равно в магазинах нет. А из хвостов можно суп сварить. Испанский.
– Ты умеешь?
– Нет.
– А кто?
– Дерюгина умеет. Придет сейчас. Звонила, пока ты в душе был.
– Цапль, зачем нам суп из хвостов? Я три банки тушенки принес!
– Вот сам ее и ешь, свинью свою!
– Там не свинья, там корова!
– А у меня – быки! Точка!..
***
Я любил это время, – четыре пополудни субботы, когда не день и не вечер; когда я не дежурю. Когда нам можно ленивым прайдом просто валяться, насытившись, – уже не друг на друге, а рядом, и тихо говорить.
– Что нового, Стеша?
– На работе?
– Ага.
– Каждый день все самое новое. Новейшее. Новые отравления, новые инфаркты, новые суициды. Будет лето – прибавятся утопления.
– Все клоуничаешь.
– Не без этого. Гураму скоро на пенсию.
– Кто вместо?
– Вольфсон, знамо дело.
– Молодым везде у нас дорога, знамо дело… А почему не ты?
– У меня для завотделением еще молоко на губах не обсохло.
– Стеш, а ты уверен, что молоко? – и ржет тихо в подушку, отвернувшись, угловатые лопатки ходят вверх-вниз под тонким шелком халатика.
Ты не тощая. Ты длинная. Длиннее меня на семнадцать сэмэ. И охальница, каких мало. А я рядом с тобой летаю. Ты знаешь.