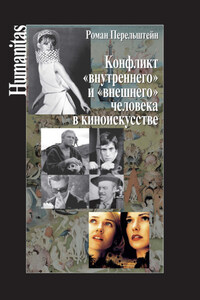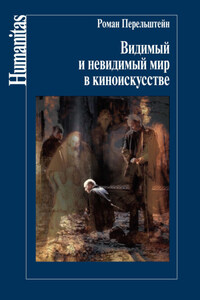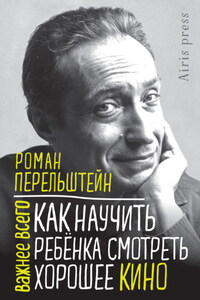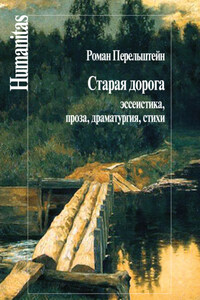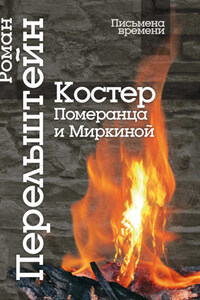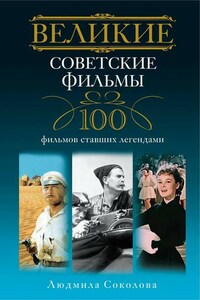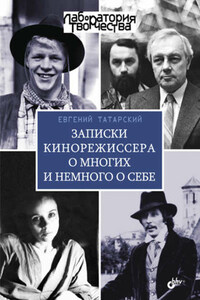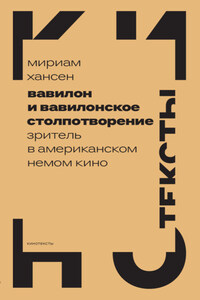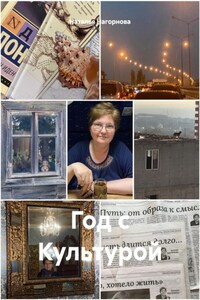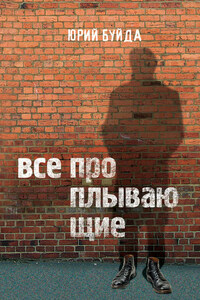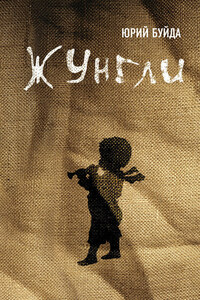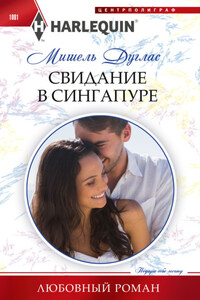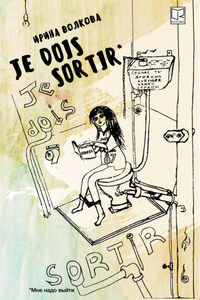Христианская антропология исходит из того, что человек имеет две ипостаси. Первая связана с опытом превозмогания смерти и называется человек внутренний. Вторая является попыткой сойтись со смертью как можно ближе и называется человек внешний. Две «разнокачественные сущности» единой духовно-телесной организации человека находятся в беспрестанной борьбе друг с другом. Примирение между ними, согласно христианской антропологии, невозможно[1].
Конфликт внутреннего и внешнего человека является одной из архетипических тем киноискусства. В свете этого конфликта онтологические проблемы человеческого бытия не только угадываются киноэкраном, но и ставятся. Искусство кино способно выявлять «проблематику жизни», связанную с феноменом выбора между подлинным и мнимым существованием благодаря тому, что оно непрестанно обращается к антитезе внутреннего и внешнего человека как двум возможным вариантам нашей судьбы.
Область невидимого и непостижимого, существующего вопреки здравому смыслу, то есть находящаяся в конфликте с видимым и познаваемым, является той частью реальности, без которой реальность была бы неполной. Так же и человек не исчерпывается своей «внешней» ипостасью. Существует, и тоже нередко вопреки здравому смыслу, ипостась «внутренняя». Она незрима и непостижима, но без нее разговор о подлинности человеческого существования, о полноте присутствия человека в мире был бы и вовсе невозможен.
Киноискусство не могло обойти столь важной темы. Оно заговорило о конфликте внутреннего и внешнего человека, прибегнув на уровне драматургии фильма ко всевозможным антиномиям, значение одной из которых переоценить трудно. Это противоречие между реальностью и игрой. Трагический и жесточайший конфликт внутреннего и внешнего человека имеет прямое отношение к противоречию между реальностью как сценарием нашей возможной подлинной жизни и игрой как сценарием бегства от жизни.
Двигаясь в русле конфликта внутреннего и внешнего человека, избрав ориентиром противоречие между реальностью и игрой, мы приподнимем завесу над драматургическим замыслом ряда вершинных достижений киноискусства ХХ века. Их достаточно много в отечественном кино, и поистине им нет числа в кинематографе зарубежном. Поэтому основной массив разбираемых фильмов будет связан с кинематографом стран Европы, а также Америки и Японии. Автор рассмотрит антропологические концепции экзистенциально ориентированных зарубежных мыслителей ХХ столетия, однако, взгляд на мировое кино, неотъемлемой частью которого является отечественный кинематограф, будет брошен преимущественно с высоты русской религиозной мысли, из недр «метафизики сердца», одного из важнейших, если не определяющих направлений отечественной философии. На протяжении всей работы будут то спорить друг с другом, то вторить друг другу художественные философии Ингмара Бергмана и Андрея Тарковского. Конфликт внутреннего и внешнего человека по-разному решается Бергманом и Тарковским, однако благоговейное отношение к внутреннему миру личности объединяет воззрения этих двух великих режиссеров. «Реальность и игра» – едва ли не ведущая тема бергмановского кинематографа. У Бергмана игра выступает прежде всего духовным феноменом, что и позволяет полноценно, без скидок на какое либо недопонимание, соотносить ее с незримой или метафизической реальностью. «Реальность и игра» – не проходная тема фильмов Тарковского. Мистическая связь между людьми, которая и есть метафизическая реальность, в мире Тарковского противопоставлена играм, в которые играет рабски удовлетворяющее свои желания человечество.
Итак, если конфликт внутреннего и внешнего человека – одна из вечных тем искусства кино, то противоречие между реальностью и игрой – одна из возможных тем художественного фильма, которую трудно себе представить вне этого конфликта. В дальнейшем мы дадим исчерпывающее определение терминам «реальность» и «игра», составляющим важнейшую для данного исследования оппозицию.
Термин «художественный», в отношении фильма, мы избрали не случайно. В поле нашего зрения попадут и игровые, и документальные, и анимационные ленты. То, что они есть художество в самом широком смысле этого слова, не вызывает сомнений. Анимационный фильм Александра Петрова «Сон смешного человека», документальная картина Гофри Реджио «Каянискатси», игровая лента Федерико Феллини «Восемь с половиной» выполнены на высочайшем художественном уровне, что и позволяет говорить о них как о художественных явлениях.
Очень важно в самом начале работы прояснить, как мы понимаем природу конфликта внутреннего и внешнего человека и исход конфликта, если исход вообще возможен. В попытке подобного ответа, безусловно, сквозит «личный жест»[2], да и возможно ли, не имея личностного отношения, ответить на столь непростой вопрос. Полноты внутреннего человека можно требовать только от самого себя, но вменять внутреннего человека в обязанность кому-либо недопустимо. Так же как недопустимо презирать в ком бы то ни было внешнего человека, так как от этого презрения рукой подать до ницшеанской «любви к дальнему», самому эффективному оружию для интеллектуальной и физической расправы над ближним.
Необходимо сразу сказать несколько слов и об искусстве в ракурсе конфликта внутреннего и внешнего человека. Искусство есть кружная, окольная тропа от внешнего человека к внутреннему. Тропа, которая может вывести нас к самим себе, то есть к тому, что в нас самих ближе нам, чем мы сами, по меткому выражению Бердяева, а может и затеряться в дебрях чужой нам, оплошно присвоенной судьбы[3], сгинуть в постылости нашего угрюмого равенства самим себе. Делая первые шаги в направлении оппозиции реальности и игры, теснейшим образом связанной с конфликтом внутреннего и внешнего человека, заметим, что тропа искусства может как оказаться самой реальностью, так и обернуться игрой. Мы ни на минуту не забываем о том, что искусство и, в частности, кинематограф обращены не только к сокровенному в нас, к внутреннему человеку, как подлинному нашему «я», но и к человеку внешнему или, как сказал бы философ Григорий Сковорода, человеку «земляному». Кинокритик М. Брашинский в статье «Страх в кино» выразился еще резче: «…кино всегда целится ниже пояса»[4]