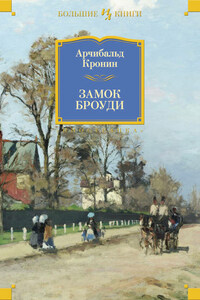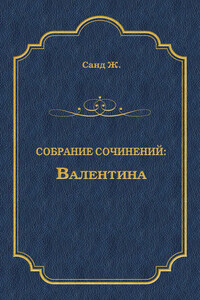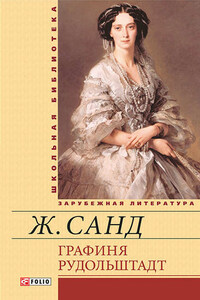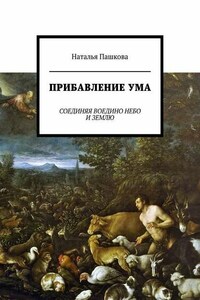– Да, да, сударыни, можете качать головой, сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас – это… Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.
– In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto[1], – пропела Констанца с вызывающим видом.
– Amen[2], – хором подхватили все остальные девочки.
– Скверный злюка, – сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым, морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.
– Не по адресу! – произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола. – И все-таки, – добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, – эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка – не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела…
– Значит, это я!
– Нет, я!
– Вовсе нет, я!
– Я!
– Я! – закричали разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.
Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности – к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика), – маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он – всегда такой скупой – только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко{1}, но не самой красивой, а самой разумной.
– Консуэло? Испанка? – закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.
Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.
– Консуэло, – сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, – иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina»{2} Перголезе{3}, которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.
Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.
– Хорошо, дочь моя, – сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. – Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти{4}, уже пройденную нами.
– Si, signor professore[3], – ответила Консуэло. – А теперь мне можно уйти?
– Да, дитя мое. Девицы, урок окончен!
Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги – неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, – которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.
Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихшим ученицам.
– Стыдно вам, красавицы! – сказал он. – Эта девочка – а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней – только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание!
– Не мог не выпалить своего любимого словечка, – крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. – Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.