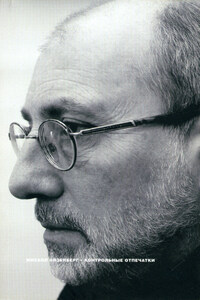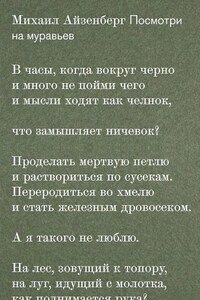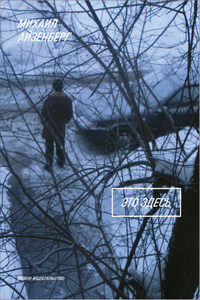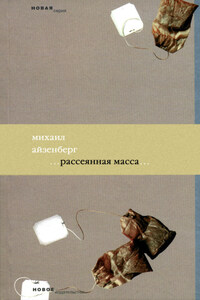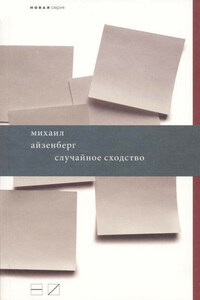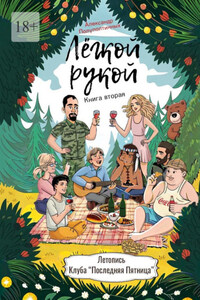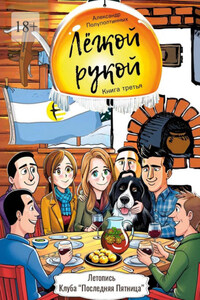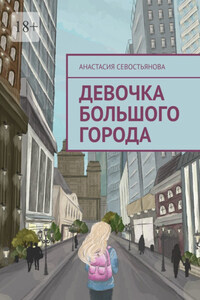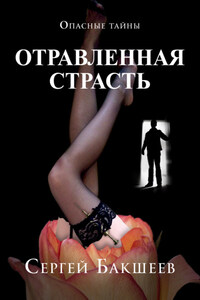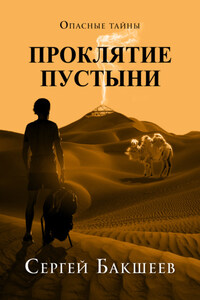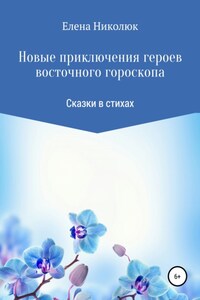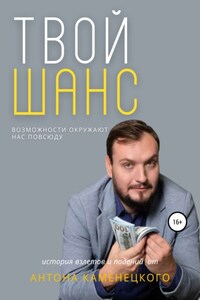Когда-то, в рисовальных классах архитектурного института, было очень поучительно рассматривать работы студентов из далеких экзотических стран. Классические черты Аполлона, Дорифора или Апоксиомена в их академических штудиях приобретали особый характер – в зависимости от происхождения рисовальщика. Становилось понятно, что и с нашими рисунками происходит нечто подобное, только мы не замечаем этих чудесных превращений.
Если говорить о литературе, у этого предмета (портретирования) обнаруживается и другая сторона: в сознании писателя реальные «люди и положения» невольно подстраиваются под уже существующий, наработанный механизм описания. Такое искажение – закон жанра, обсуждать можно только степень искажения и его правомочность.
Человек, не готовый смириться с неизбежностью, должен либо отказаться от «портретных зарисовок», либо как-то реформировать этот жанр. В своих очерках о некоторых людях, с которыми мне посчастливилось общаться, я пытался учитывать это обстоятельство.
«Научиться тому, как прикоснуться к вещи, которая тебе дорога, и не сломать ее» – так определяет свою задачу замечательный художник Олег Васильев. Пожалуй, схожая задача маячит и в представленных здесь опытах, только вещью в моем случае являются память и воспоминание.
Любое воспоминание немного дефектно, отчасти просто фиктивно. Фиктивность связана с постоянным изменением: это не вещь, а процесс, включающий и «воспоминание о воспоминании».
Возможно, поэтому так трудно записать воспоминание. Запись требует последовательности, сюжета, а здесь выстраивание, вытягивание какой-то «истории» кажется насилием. Обнаружение себя в реальных обстоятельствах происходит не так – не в таких формах. Не так открывает себя реальность. А как? Это и нужно выяснить, создав пространство, словесную среду, где воспоминание жило бы в естественных условиях и свобода его движения не была бы слишком ограничена.
Мы снимаем показания, но цель у нас одна: понять, что же там было на самом деле. Может быть, мы на самом деле все помним, но только не знаем, что именно нам надо вспомнить? «Быть – это видеть свое отражение» (Ю. Лотман). То есть речь идет не об амнезии, а о небытии, и неосознанное обострение слуха само свидетельствует о существовании скрытого, непроявленного сюжета.
События нашей жизни трудно представить себе некими «точками» – замкнутыми, лишенными связей. Если и «точки», то не на плоскости. Скорее на какой-то «волне», и подлинные связи между ними тоже волновые. Воспоминание имеет двойную природу: за частностями, за памятными эпизодами стоит какая-то цельность, которая и есть память. Там можно обнаружить не замеченную раньше связность событий, знакомств, разговоров, которая говорит о времени и среде не меньше, чем о наблюдателе. Там ничего не различишь без специальной оптики. Такая оптика не может принадлежать ни герою, ни автору-рассказчику, но кому-то третьему, наблюдающему рассказчика со стороны и угадывающему его способ видеть, его зрительную технику. Наблюдателю нужно другое место, причем не постоянное, а подвижное.
Двойную природу воспоминания можно понять как фамильное сходство с природой времени и как прямое ей подражание. Так дети перенимают основу характера родителей, но еще и копируют родительские повадки.
Память живет по каким-то своим неясным законам, но воспоминание уже зависит от языка: подчиняется тому слою сознания, что нашел себя в языке. «На самом деле и там – бездна событий. Отсутствует только способ их припомнить» (П. Улитин). Биография – то, что можно запомнить и рассказать. Воздух жизни, идущий мимо языка, идет и мимо биографии. Странная неопределенность наших биографических обстоятельств (я говорю сейчас только о своем поколении), как мне кажется, прямо связана с тем временем, которое мы можем считать своим по преимуществу, – с семидесятыми годами прошлого века. Но сейчас я вижу, что тень, в которую мы так безропотно ушли, переходит и на последующие времена. Затеняет и их.
Само это время было «черновиком»: оно начинало новую эпоху. Что делают с чистым листом, с его пугающей белизной? Заполняют пробами пера, набросками и каракулями. Так все и жили: как будто начерно, откладывая все существенное на потом.
Таким же черновым и фрагментарным остается осознание этого десятилетия (которое в действительности длилось гораздо дольше). Какие-то «островки сознания». Перебелять их трудно: что-то невозможно разобрать, а многое утрачено. Остались «фрагменты», по которым и надо восстанавливать первоначальный текст. И здесь нужна специальная техника.
Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили. (Их и не заметили.) Только к концу восьмидесятых стал слышен шум исторического времени, и он показался тогда очень новым, непривычным впечатлением. Под него нужно было перенастраивать свой слуховой аппарат, потому что безвременье изъяснялось ультразвуками.
Есть выражение «торговать воздухом». Что сказать о воздухе семидесятых годов? Он едва ли может стать предметом купли-продажи. В нем нет плотности – событийной основы, ткани. Наш язык его не берет. Он настолько бесплотен, что весь, без остатка, уходит в щели и пазухи языка. С этим щелевым шелестом способно совпасть только поэтическое слово, потому что поэзия сама – воздух, намагниченный воздушный ток.
«Человека семидесятых» как будто нет. Мы уже не были теми, но еще не умели быть другими. Наш опыт – начальный, а потому как бы эфемерный. Не было образца, не было «поведенческого монолита», с которым возможен сторонний диалог. Выражаясь языком семиотики, не было социокультурных грамматик. Сознание не фокусировалось на тех вещах, что составляли реальное содержание жизни, и часто пропускало основные впечатления, не посчитав их достойным материалом, потому что эти вещи не совпадали с какими-то образцами, принятыми ориентирами. При множестве паролей отсутствовали «условленные» грамматические нормы.
Немного об этих паролях. Есть особая этикетность маленьких сообществ. В ее основе – общий принцип экономии средств, в частности средств выражения. Вместо долгих объяснений – значимый жест, кодовое словечко, ужимка. И огромная область того, что молчаливо подразумевается и не требует объяснений. Не требует слов.
Мое поколение находится в ситуации, которая кажется мне уникальной. Только услышав, что говорится после нас, мы смогли почувствовать, что же не сказали сами. И сейчас нам приходится не говорить, а договаривать; полемизировать с давно исчезнувшими оппонентами. Это очень неловкое, тягостное положение, во многом сходное с «остроумием на лестнице».
Язык нашего поколения и сейчас во многом остается личным и круговым. Все, кто хотели говорить «городу и миру» и быть услышанными, шли на лингвистическую выучку к другим поколениям, начинали пользоваться их языками (для нас – по большей части мертвыми, схоластическими). Это поколение эмигрантов еще и в том смысле, что изрядная часть его представителей эмигрировала в чужие речевые практики. Кто же остался? Каждый, я думаю, именно себя склонен считать оставшимся – и оставленным.