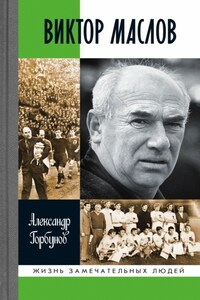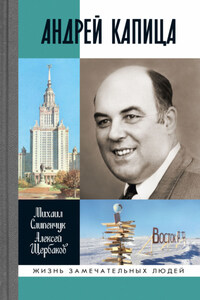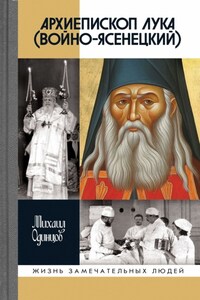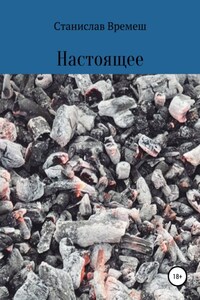Пожалуй, никто из преподавателей Московского училища живописи не пользовался среди учащихся такой симпатией, как Корин.
В его натуре была необычайная теплота, скромность и искренняя готовность оказать всяческую помощь ученикам.
И внешность его – спокойная, особо мягкая – отвечала его характеру. Запомнилось его слегка смуглое лицо с нависшими густыми черными прядями волос, из-под которых глядели вдумчивые, немного грустные глаза.
Речь его была ровная, спокойная, голос – мягкий, густой баритон. Он никогда не сердился, не повышал тона, а, указывая на ошибки ученика, как будто советовался с ним о мерах для исправления недочетов, не прибегая к своему преподавательскому авторитету. Если ученик приводил веские доводы в защиту свой работы или своих особых взглядов на искусство, Алексей Михайлович, не стесняясь, соглашался с ним и говорил:
– А пожалуй, и верно, уж лучше оставьте так, как есть, а то я боюсь, чтоб не навязать вам своих взглядов и своих ошибок.
Он преподавал в головном классе, куда был выбран по окончании того же Училища живописи. Путь учебы его был тяжелый. С детства он работал под руководством отца, палехского крестьянина-иконописца. Двенадцати лет был отдан в иконописную мастерскую к известному тогда художнику Шокалову, а в семнадцать лет поступил в Училище живописи в фигурный класс, так как был солидно подготовлен по рисунку и живописи. До школы он прошел все иконописное ремесло, знал его в совершенстве, и оно выручало его потом в минуты нужды, как и мешало ему в живописи.
Учителями его были старые классики братья Сорокины, Павел и Евграф, а затем Прянишников и В. Маковский. Рисовал и писал этюды в школе Корин превосходно, получал почти всегда первые номера. Более всех дал ему Прянишников, талантливый представитель нового тогда течения в искусстве – реализма. Сорокины доживали свой век в ложном классицизме, закрыв глаза на русскую действительность. Павел Сорокин не выделялся, кажется, ничем, кроме своей замкнутой жизни и богобоязненности. Последним его качеством пользовались хитрые ученики. Желая заполучить Сорокина для исправления своей работы, они прикидывались тихонями и надевали на себя маску благочестия.
Особенно отличался в этом ученик Н. Он обращался к П. Сорокину за указаниями. Тот смотрел на рисунок и говорил.
– Не стараешься, и потому плохо. Старайся, голубчик, старайся.
Ученик жаловался:
– Я и то стараюсь изо всех сил, из кожи, можно сказать, лезу, а вот не выходит что-то. Должно, меня господь обидел.
– Не ропщи, – говорил Сорокин, – а лучше обратись к нему с молитвой.
– А разве я против этого? – продолжал Н. – Я уже и в Троице-Сергиево ездил.
– Ездил? Это хорошо, молодой человек, это тебе помочь может. Пусти-ка меня на свое место, у тебя на рисунке что-то ноги не ладятся, поубавь маленько.
А Н. напевал:
– Вяжу, что не выходят, а не знаю, как исправить. Между прочим, настоятель в Троице просил передать вам поклон.
– Настоятель, говоришь? А ты его знаешь? Спасибо, спасибо, дружок! Дай-ка уголек, я вот ноги урежу.
И Сорокин садился рисовать. Один раз Н. даже купил просфору в соседней церкви и принес ее Сорокину как подарок от архимандрита Сергиевской лавры, за что Сорокин исправил весь его рисунок, и Н. получил за него хороший номер.
Другой Сорокин, Евграф, славился как прекрасный рисовальщик. Про него говорили, что он может нарисовать натурщика по памяти, посмотрев на него один раз или начав рисунок с пальца на ноге натурщика. Конечно, если и было что-либо подобное, то рисунок был условным и едва ли мог передать действительную, живую натуру.
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, содержавшееся на средства Московского художественного общества и имевшее в составе преподавателей молодые силы, более отвечало запросам времени, чем Академия художеств. В нем царил живой дух и была уже увязка с русской действительностью; оно шире открывало двери талантливой молодежи из разных, преимущественно бедных, слоев общества, стремившейся к искусству со всех концов России.
Учились в Училище – подросток крестьянский, маляр, монах-иконописец, студент университета, был даже старый генерал в положении вольного посетителя. А вольные посетители ничем не отличались от учеников, к ним предъявлялись по искусству общие для всех требования, они избавлялись только от занятий по наукам.
Генерал, когда аудитория притихала за работой, часто декламировал любимые им стихи Жуковского:
Окрест него могучий бор,
Утё-осы под ногами,
Туманен вид полей и гор
– Тума-а-ны над водами…
и спрашивал преподавателей, когда к нему придет вдохновение.
Прянишников отвечал:
– Потерпите, ваше превосходительство, немножечко осталось, скоро и у вас появится.
Корин, учась в училище, должен был зарабатывать на свое существование: писал образа, портреты и все, что давало хоть некоторый заработок. Жил он в знаменитой Ляпинке – общежитии для учащихся, построенном купцом Ляпиным. Там в комнатах по три-четыре человека теснилось студенчество, не имевшее средств платить за частную квартиру. Жизнь в Ляпинке, как и в Училище, слагалась в настоящую богему. Здесь процветало озорство, дебош и зарождалось пьянство. Много талантливых натур получало здесь злокачественную прививку, калечившую в дальнейшем их жизнь. Не избежал всего этого и Корин. Его мягкая, а порой слабая натура не могла бороться с влиянием прежних друзей-иконописцев, у которых слово «веселие» непременно связывалось с глаголом «пити». Они являлись к нему, когда он перешел из Ляпинки в номера, с выпивкой и закуской и тянули его в тину низкопробной богемщины.
Когда более стойкие товарищи советовали Корину попросту гнать от себя кутил, он говорил: «Знаете ли, как-то неловко, могут обидеться», – и волей-неволей разделял с ними компанию.
Его учитель Прянишников говорил про учеников Училища живописи, что они щенки, брошенные в реку, и только сильный из них выплывает на берег, слабые должны потонуть.
Корин был сильным в своих способностях к искусству, это держало его на поверхности воды.
В этой борьбе за место в искусстве было «горе побежденным и трижды горе!»
Корин бился и выплыл к берегу, а рядом с ним тонули слабые. И эти тонущие тоже встают в моей памяти, как щемящие сердце листы давно прочитанной грустной книги.
Учился, старался постичь тайны искусства, овладеть его техникой крестьянин-рабочий Волгужев.
Он умел управлять паровой машиной и летом работал на молотилке. Собрав за лето несколько денег, он на зиму приезжал в Москву и принимался за живопись. Был он уже не молод, обросший бородой, с мелкими чертами лица мужичка-полевичка. Голубые детские глаза и чисто крестьянская речь с выговором: «Ну, чаво там!»