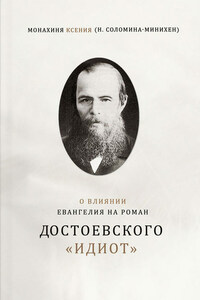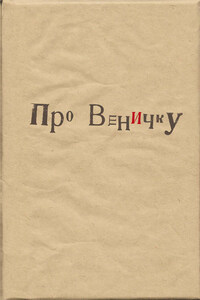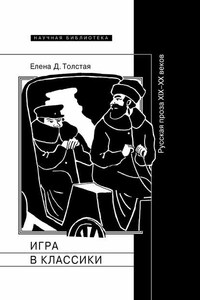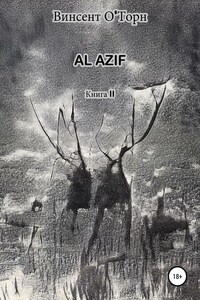В. С. Печерин. Apologia pro vita mea. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / Отв. ред. и сост. С. Л. Чернов. СПб.: Нестор-История, 2011.
«Ах! как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! Хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: здесь лежит ум и сердце В. Печерина».
Ну разумеется. Должна же Россия отдавать себе отчет, что Бобчинский был ни в коем случае не Добчинский, совсем другой индивидуум. Священное право Гильденстерна – отличаться от Розенкранца.
Потрясающая книга. Выдающийся памятник человеческого трудолюбия, самоотверженного прилежания. Но также – замечательное, хотя и невеселое, приключение ума.
Собственно говоря, не журнальному щелкоперу судить о таком труде. Хвалить (или, допустим, порицать) его имеет право лишь тот, кто хотя бы отдаленно представляет себе, что это такое: разобрать, переписать, подготовить к печати сотни три пространных рукописных документов и осветить их двумя без малого тысячами (!) обстоятельных примечаний.
Я, признаться, не надеялся, что одолею этот томище. Думал: стану про него писать – ограничусь возгласами почтительного восхищения. Если беглое, поверхностное знакомство даст соответствующий повод. Ну а не даст – промолчу.
И что же? Не поверите: прочитал всю книгу от корки до корки. И не жалею. Верней, жалею – о времени, потраченном в ходе предыдущей жизни на чтение чепухи, написанной про Печерина прежде, раньше, разными другими людьми, начиная с Герцена. Чепухи, в общей сложности, тоже набралось бы, наверное, с полкило. Описываемая книга весит около килограмма. То есть физическая масса антидота вдвое больше, чем отравлявшего вещества. Пропорция не выглядит оптимальной, – но:
во-первых, упомянутая чепуха отныне обезврежена навсегда, и впредь употреблять ее никто не станет;
во-вторых, лентяям, желающим поумнеть быстро и легко (выражусь мягче: приобрести разумное понимание некоторого эпизода из истории русской литературы), достаточно пробежать глазами вступительную статью С. Л. Чернова, в которой все главное сказано и блеск, так сказать, не уступает глубине.
В 1830-е, после смерти Гнедича, в России практически не осталось людей, толком знающих древнегреческий. Министр просвещения, министр юстиции, один профессор Санкт-Петербургского университета – немец Грефе – и все, обчелся. Всем троим такое положение вещей казалось катастрофическим и нестерпимым. Грефе втемяшивал студентам свой предмет изо всех сил, но они относились – как советские к якобы живым иностранным: на черта учить язык, на котором не с кем общаться; сдать зачет – и забыть. Какова же была радость немецкого профессора, когда один из выпускников вдруг выказал необыкновенные способности к этому языку и продемонстрировал на экзамене превосходные познания. Многообещающего юношу (а это и был Владимир Печерин) тотчас и сверх квоты отправили в Дерпт, на курсы повышения квалификации, наименованные Институтом красной профессуры – шучу: просто Профессорским институтом, – и специально созданные для укрепления вузовских кадров. А из Дерпта – вместе с другими будущими светилами отечественной науки – в Берлин, в тамошний университет. Через два, что ли, года они все вернулись на родину и получили распределение; Печерину выпало – доцентом в Москву.
А в Москве ему не понравилось. И там с ним что-то случилось. Нервный срыв, осложненный культурным шоком, или наоборот. Ужаснула перспектива провести всю оставшуюся жизнь в этой огромной деревне, принимая у провинциальных недорослей зачеты и экзамены. Ужаснула тщета, бесцельность и безвестность. У него были – или казалось ему, что есть, – какие-то основания считать себя человеком, заслуживающим лучшей или хотя бы более эффектной судьбы. Он стал копить лихорадочно деньги; стал выпрашивать отпуск и загранпаспорт – под туманным предлогом (для начальства и коллег), что долг чести призывает его вернуться ненадолго за бугор, дабы увенчать законным браком некую историю любви. Министр Уваров к нему очень благоволил, возлагая надежды. Паспорт, в виде исключения, выдали. После первого же семестра, на первых же каникулах Печерин свалил – и не возвратился. Попечитель МГУ написал ему увещевающее послание типа: вернись, мы все простим. Он, хотя и не сразу, ответил письмом, по-видимому искренним, потому что совершенно бредовым:
«…Ношу в сердце моем глубокое предчувствие великих судеб. Верю в свою будущность, верю в нее твердо и слепо…
Юношеское ли это тщеславие? Или безмерное честолюбие? Или безумие? – Не знаю. Мой час еще не настал.
Провидение никогда не обманывает. Семена великих идей, бросаемые им в нашу душу, всегда суть верный залог прекрасной жатвы славы… Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!»
Может быть, немножко и симулировал (уж больно неумный текст), – но, во всяком случае, никаких, даже стилистических, разногласий с царизмом. Попечитель пожал плечами, Уваров пожал плечами, Николай I пожал плечами: ну спятил бедняга, заучился (в древнегреческом два типа ударений, два придыхания), – ну, бывает. Объявлять его в международный розыск (pro forma дело, само собой, завели), требовать экстрадиции, а потом еще лечить в Обуховском дурдоме за казенный счет… Гуманность гуманностью, а целесообразность? Короче, предпочли махнуть рукой.
Затем года три в биографии Печерина покрыты более или менее непроницаемой тьмой. Плана, судя по всему, никакого не было, да и какой мог быть план? Что делать в Европе 30-х годов филологу-античнику (пусть даже и отличному) без вида на жительство? Искал (не понимаю зачем) контактов с оппозиционными кружками в разных государствах, просил подаяния, служил, если не ошибаюсь, в лакеях. В 1840-м свел знакомство с каким-то французским священником, потом еще с одним. По их наущению перешел в католичество и вступил в монастырь – и все. Успокоился. Остальные две трети жизни (он родился в 1807-м, а умер в 1885-м) провел на всем готовом, заполняя обильный досуг, остававшийся от различных ритуальных действий, чтением книг и прогулками на свежем воздухе.
И все позабыли бы о нем навсегда, не навести его в Англии Герцен.
Но не мог же Герцен его не навестить – упустить такой сюжет: встречу второй волны с первой. (Пересечение кругов на воде.) И когда встреча состоялась, не написать блестящего эссе: «Reverend Petcherine!.. И этот грех лежит на Николае» и т. д.