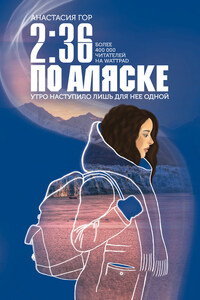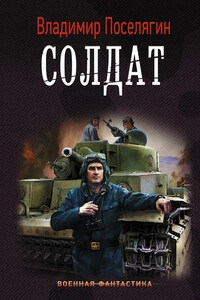Шалфей. Чай, солоноватый и приторный, с щепоткой кайенского перца – наполненные до краев пиалы, на сутки сместившие со стола кофе и традиционное какао со взбитыми сливками. Лаванда. Сиреневый бархат на дне ступки, высушенный и перемолотый, – щедрая почесть огню, шепчущему в камине. Полынь. Ароматное тление свежесрезанных стеблей, омывающее дымом углы и изголовья детских постелей. Духовная чистота пространства – синоним физической безопасности. По преданиям, ничто не отпугивало злых духов лучше, чем священные травы, которые моя семья проносила в подожженных вазочках через все комнаты дома накануне Имболка.
– Чем ты меня напоил?
Перечная мята, въевшаяся в кашемир его свитера. Гвоздика, напоминающая о варящемся в котелке пряном вине и скором ужине, на котором обещали подать домашнюю утку с брусникой. Дурман, соком которого пропитались его рукава и пальцы, пока он сидел на чердаке пять часов кряду и готовил заклинание, до того безобразное, что оно извращало саму природу колдовства.
Беззвучная вспышка молнии за окном напомнила мне о бесчисленных ночах, проведенных вместе под овчинным покрывалом. Черно-белое кино на проекторе и подгоревший соленый попкорн. Сплетение рук и ног в самых надежных на свете объятиях. Мы могли бы лежать так всю жизнь, наплевав, что в таком огромном особняке полно свободных спален. Мы бы могли…
Маттиола, которую он тайком подмешал мне в напиток.
– Чай, – снова прохрипела я, разлепив отяжелевшие веки и увидев лицо брата, примостившегося на краю подушки. – Это был не шалфей. Ты дал мне другую кружку. Там был левкой, да? Я не сразу узнала вкус.
– Да, цветочный мед превосходно притупляет горечь левкоя, – нежно улыбнулся он, любуясь тем, что сотворил со мной. – Радуйся, что это не тетушкин ксанакс.
Я застонала, когда меня скрутил приступ головной боли. Она прошила виски, и я перевалилась на спину, подавляя рвотный позыв. Брат насильно вернул меня на прежнее место, сцепив руки замком под ноющими ребрами. Все, что я могла сделать, – это сжимать пальцы, силясь стряхнуть онемение с тела, как птица стряхивает с перьев воду.
– Зачем? – спросила я, мечтая отстраниться от влажного дыхания брата, когда он придвинулся слишком близко. Нам двоим на одной подушке сделалось тесно. – Не помню, чтобы я страдала бессонницей.
– Иначе ты бы мешалась.
– Мешалась?
– Да. И злилась, а я очень не люблю, когда ты злишься.
Нежный поцелуй в лоб ничуть не утешил. Брат провел рукой по моей расплетенной косе, длинной, неподъемной, – из года в год он отговаривал меня состригать волосы.
– Как же Имболк? – Я встрепенулась, и тяжелая медовая дремота наконец-то начала отступать, возвращая голосу силу, а мышцам подвижность. – Только не говори, что пытался досадить ковену, заставив меня проспать шабаш! Который час? Празднество уже началось?
– Нет, не началось. – Брат бесцеремонно оттянул назад мою голову, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. – И никогда не начнется. Маленькой Верховной не к чему тревожиться. Мы всегда предпочитали общество друг друга, давай снова посмотрим «Кошачий глаз» и закажем пиццу. Помнишь, в детстве мы мечтали, как однажды сбежим отсюда и создадим собственный ковен?..
Слюна во рту стала вязкой, и предчувствие беды перестало тихо скрестись в грудной клетке – теперь оно вопило.
– Что ты сделал?
– Где не будет никаких правил… – продолжал брат, не слушая.
– Джулиан… Что ты сделал?!
– Где мы будем только вдвоем.
Бессмысленные слова. Бессвязные мысли. Его кожа – болезненно горячая. Я исступленно заерзала, борясь с желанием сдаться… И с нарастающим гневом. Мой брат – сумасбродный, импульсивный – мог напугать кого угодно, но только не меня. Невзирая на его бред и снотворный настой, которым он меня напоил. Несмотря на тошнотворные поцелуи, хаотично сыплющиеся на мои ключицы… Он не был способен навредить ни мне, ни кому-либо другому. Не был…
Шалфей. Лаванда. Полынь.
Мята. Гвоздика. Дурман. Маттиола…
Железо, которым пропитался каждый сантиметр этого дома, раз и навсегда вытеснило из него все прочие запахи.
Джулиан ткнулся носом мне в шею.
– Ковен нас недостоин.
Моя рубашка задралась, и под ней я почувствовала его холодные руки, липкие и мокрые. Густая слизь пропитала хлопок, вызвав волну омерзения, еще более сильную, чем вызывали его поцелуи. Задергавшись и высвободившись из плена одеял и властных объятий, я перекатилась на другую сторону кровати и включила торшер.
– Что-то не так? – спросил Джулиан с бездушной улыбкой на рябиновых губах, подставляя под свечение ночника окровавленные руки. Его свитер был облеплен багровыми ошметками человеческой плоти. – Ах да. Ты слышишь это? Именно так звучит тишина! Кто бы подумал, что цена пяти минут покоя в собственном доме окажется так несущественна. Шестеро Дефо. Четыре атташе. Пять семей. В сумме тридцать семь душ. Я похож на ту раковую опухоль, что убила нашу мать, только управился быстрее. «Верховная умерла – да здравствует Верховная!» Ты плакала, когда услышала это. «Ковен умер – да здравствует ковен!» Так звучит гораздо лучше. И плакать совсем не хочется, правда же?
* * *
Я распахнула глаза и, проглотив крик, резко села на подушках, убирая с лица всклоченные волосы, что приклеились к щекам от холодного пота.
– Надо уходить, – прошептала я и вгляделась в матовую темноту, которая простиралась до парадной двери и рассеивалась снаружи, уступая мерцанию садовых ламп.
Там, со следами от жесткого матраса и потекшей косметики на лице, босиком стояла Рэйчел. Мое пробуждение не стало для нее сюрпризом: передернув затвор карабина, она сдержанно кивнула. Зигзагообразные узоры татуировки, пересекающие ее шрамы под лямками майки, пульсировали огненным светом в такт моему сердцебиению.
– Да, я знаю, – тихо ответила Рэйчел. – Слишком поздно. Достань гримуар и спрячься. Он уже здесь.
Где-то вдоль аллеи мелькнула тень, затмевая свет ламп.
В дверь постучали.