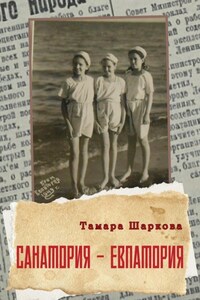Умереть – как глотнуть кофе
1
А что же остальные? О, остальные просто украшали картинку – как кактусы в вестернах.
Я же, будучи послушным зверьком, не знавшим, что, помимо клетки, где он провел всю жизнь, существуют иные миры, даже не подозревал о том, что вселенная не сводится ко мне, ему, ей и ставшим родными прутьям, из-за которых мое заключение казалось вечным, а при взгляде на открывающиеся вокруг пейзажи щемило сердце.
Незыблемость этой исконной самодостаточности подорвала школа: к моему огромному удивлению, в жизни даже самых несуразных одноклассников было полным-полно дедушек, бабушек, братьев, сестер и мечтательных кузин.
Тогда-то и закралось сомнение в преимуществе нашей сугубо отдельной жизни, я стал задаваться неудобными вопросами вроде: а куда все делись? что же с ними приключилось?
Судя по рассказам родителей – вернее, судя по тому, что родители старались об этом не говорить, – наш род вымер миллионы лет тому назад. Что прежде всего объясняло, почему отец отбирал воспоминания о собственном детстве с осторожностью палеонтолога, берущего в руки доисторическое ископаемое, и почему мама вела себя так, будто у нее и вовсе не было детства, прошлого, собственной истории.
Человек – общественное животное. Так говорил Аристотель. Ipse dixit[1]. Наверное, он прав, но, попадись ему такие родители, как мне, у него бы язык не повернулся сказать подобное! При этом, будучи человеком негибким и педантичным, он бы точно не применил слащавое определение “домашнее гнездо” к норе, где я вырос: сколько бы я ни старался, мне вспоминается не соломенный тюфяк, на котором так сладко дремать, и не гамак, лежа в котором приятно любоваться закатом, а разобранная постель – мрачная пещера, готовая тебя поглотить. Разве не там, под одеялом, в полной темноте, рождаются истории? Что ж, и эта история, хотя она меня уже почти не касается, не станет исключением.
2
Я был еще не оперившимся птенцом, когда однажды, увидев лежащего в постели отца, со страхом подумал: он испустил дух. Эта мысль вряд ли бы посетила меня, не последуй ночь, когда он решил умереть, за днем, когда он объяснил мне, что значить жить.
От того утра у меня остались смутные и малоприятные воспоминания. Началось оно хуже некуда, под знаком презренного чувства, заглушить которое неспособно даже самое безмятежное и полное довольства существование, – чувства страха. Раз уж я разоткровенничался, честно признаюсь: согласно царящим среди детей жестоким законам, я был образцовым хлюпиком.
Последние месяцы мои слабые нервы оказались игрушкой в руках мучителя, замещавшего нашего наставника. Единственное мастерство, коим овладел сей педагог, особенно если сравнивать его с любезным предшественником, – это лупить школяра по затылку костяшками пальцев, нанося прицельно точные удары так, что у того до вечера горела голова, а гордость была посрамлена до скончания дней.
Некоторое время, повинуясь свойственному трусам желанию не высовываться (казалось, новый учитель охотнее карает проказников), я обманывался, полагая, что, если буду тише воды ниже травы, бояться мне нечего. Увы, со временем я осознал, что кулак учителя карал без разбора (разве что повинуясь педерастической тяге к мальчишеским затылкам), более того – выискивал новых невинных жертв, чтобы с ними расправиться. Словом, наказание было делом времени: раньше или позже, не вернись прежний наставник, его заместитель должен был найти способ надо мной поглумиться. Я ожидал чего угодно, кроме того, что сам подарю ему удобный предлог, когда уже чувствовал себя в безопасности.
Однажды в субботу, выйдя из школы и заметив мамин “рено-5” горчичного цвета, при виде которого сердце наполнилось покоем, я зачем-то решил толкнуть Деметрио Веларди – не ожидавший подобного одноклассник упал и ободрал коленку. “Ты что, псих?” – крикнул он, привлекая всеобщее внимание.
Лишь тогда я осознал, что наш педагог бесстрастно наблюдал за моей бравадой. Поскольку неблагоразумие воистину безгранично, я бросил на него взгляд, который столь злопамятный тип наверняка истолковал наихудшим образом. Я увидел, как карающая длань сжалась в кулак (по крайней мере, мне так показалось), губы что-то прошептали (в этом сомнения не было), в глазах появилось нетерпение человека, вынужденного ждать целые выходные, чтобы добиться удовлетворения.
Какая насмешка судьбы, если учесть, что прежний учитель должен был выйти во вторник, что означало закат кровавого режима и восстановление демократии и незыблемости права. С таким настроением начались самые мрачные выходные моего детства.
Может показаться странным, что я так и не поведал родителям о том, какая опасность грозила их отпрыску. Но нужно учесть, что ничего не произошло – по крайней мере пока что: наберись я смелости и честно все расскажи, я бы все равно не привел факты, если не относить к таковым домыслы и одолевавшие меня предчувствия. С другой стороны, мои папа и мама отнюдь не были типичными тревожными родителями, стремящимися поддерживать с чадом диалог на равных, я же был классическим хлюпиком – замкнутым и, если и не привыкшим врать, безнадежно склонным недоговаривать.
Словом, пребывая в отчаянии, я задумался, не пора ли покончить с глупыми недомолвками и рассказать все как есть. Конечно, я не ожидал, что родители вмешаются. Достаточно было оставить меня дома. Не навсегда – всего на денек, в тот кошмарный понедельник. С утра вторника – никаких пропусков, железно. Никогда и ни за что. Это слишком? Видимо, да, потому что мне даже не позволили толком все объяснить.
Воскресенье я провел, обдумывая полузаконные способы как-то выкрутиться: от манипуляций с градусником до настоящего бегства. Жаль, что я был не мастак на хитрости и демонстративные поступки – не из-за несвойственного моему возрасту стремления вести себя безупречно, а из-за уверенности, которая осталась со мной на всю жизнь, что мир использует любую удобную возможность вывести меня на чистую воду. В общем, я бесконечно пережевывал эту мысль и пришел к единственному выводу: у меня не было гениального запасного плана, который спас бы от неизбежной судьбы. Воскресный вечер я провел, как осужденный на смерть проводит последние часы перед казнью: не отрывая глаз от коридора, по которому его поведут на эшафот.
Лишь в понедельник утром инстинкт самосохранения проснулся, вылившись в непонятный дерзкий каприз: нет, в школу я не пойду, сегодня – нет, ни за что!