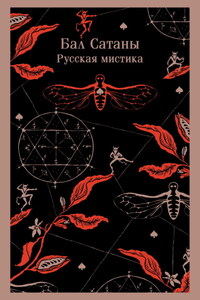Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 ноября послал меня Сеславин[2] очистить левую сторону Виленской дороги, с сотнею сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжиною донцов. Местом сбора назначено было местечко Ошмяны[3], и я, получив приказание, что делать и чего не делать, на рысях пустился проселками. День был не морозен, но туманен, и порой перепархивал снежок – лихая пороша на зверей и неприятелей. Впрочем, и без нее легко можно было узнать, где прошли французские отряды: взорванные ящики, брошенные повозки, павшие кони и, что всего ужаснее, замерзшие солдаты устилали дорогу. Мы, правда, уж привыкли к подобным картинам и хладнокровно ехали мимо трупов, распухших и посинелых от антонова огня, не заставляя даже усталых коней своих через них перепрыгивать. На лицах этих несчастных видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привел туда молодцов, которые, сидя на печке, уверяют, что смерть от мороза – сладкое усыпление; они увидели бы там всю постепенность борения с одолевающею судьбою, борение судорожное, отчаянное тем более, что они обнажены были товарищами заживо, – чувство самосохранения заглушало тогда во всех сердцах голос сострадания, человечества и братства; мертвецы валялись обнаженные, и лишь снег одевал их холодным покрывалом своим. Отсталые и, как видно, последние были еще не совсем раздеты, но одежда их была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою; и так велика была неопытность французов, что у многих из них на спинах веяли бараньи шкуры сверх мундира, вместо того чтоб надеть их под испод. Иные сидели и лежали у потухших огней, с которыми потухла в них жизнь; другие сгорели полуживые, не могши от истощения отодвинуться. Всех более поразил меня гренадер старой гвардии: глядим – он стоит вдали, опершись о ружье; подъезжаем ближе – он мертвый. Густая медвежья шапка оттеняла сдвинутые страданием брови и закатившиеся его глаза; из-под огромных усов, на которых недвижимо низался иней, сверкали стиснутые зубы.
Под моей командою был прекрасный молодой человек, поручик Зарницкий, и волонтер Кравченко, полковой аудитор[4], который, видя, что в народную войну нужнее сабли, чем перья, бросил артикул и принялся разрешать гордиевы узлы по-александровски[5]. Малый добрый, храбрый как пуля, зато и тяжелый как свинец, из которого она вылита.
Мы все трое подъехали к замерзшему и с содроганием смотрели на его выразительное лицо. Казалось, душа его улетела к милой родине в последнем взоре, но, улетая, оставила в чертах следы прежней гордости и отваги: движение губ выражало презрение боли, его победившей. Он прижимал к груди товарища своих походов – неизменное ружье, и на этой груди виделись раны.
– Бедняга, – сказал аудитор, – как не жаль эдакого молодца, хоть, между нами будь сказано, и француза: ведь в любой полк во флигельманы[6] годится.
– Завидная смерть! – сказал я. – Он умер с оружием и стоя.
– Зато какого имени стоит этот Наполеон, бросая таких людей на жертву своему властолюбию! – возразил поручик с негодованием, показывая на мертвеца и на кровавый след его. – Эти кровавые буквы – приговор его осуждения!
– Попадись только Наполеон к нам в когти, – подхватил с жаром наш коротенький аудитор. – я как раз подведу за конец, чтобы его, яко не имеющего дворянского звания, прогнать за побег сквозь строй шпицрутеном, а за мятеж весьма лишить живота!
Так разговаривая, приближались мы к лесу. Двое самых расторопных казаков почти за версту впереди оглядывали дорогу, а несколько других тянулись по бокам и сзади отряда. Вдруг завидели мы, что один из них стал на месте, между тем как другой начал разводить на скаку круги шире и шире. Зная, что это значит, я выстроил людей справа по шести.
– Сабли вон и стой! Равняйся!
Поджидаю, что будет. Страх люблю видеть русского солдата перед делом. Каждый, оглядывая кремень и стирая ногтем полку, шепчет товарищу: «Слава богу, добрались до них!» И потом с такою непритворною набожностию крестит грудь свою, с такою теплою верою взглядывает на небо! И потом так гордо встряхивается в седле, так уверенно смотрит из-под руки вдаль, как будто говорит: «Ну, сколько вас там, бусурманы? Подавай их сюда!»
Синий дымок взвился с пистолета передового казака – и долго после услышали мы выстрел. Казак уже несся к нам навстречу, между тем как товарищ его принялся кружиться перед опушкою и выманил несколько выстрелов.
Неприятель сказался – вперед!
В тот же миг мы выстроили взводную колонну и пошли рысью к лесу.
– Много ли французов, земляк? – спросил я у казака.
– Словно крупа сыплется; да с ними и пушки есть, – отвечал он.
– Тем лучше, – вскричал поручик Зарницкий, – авось они стрельнут в меня Георгиевским крестом!
Скоро мы были на полвыстрела от опушки, однако ни одна пуля не встречала нас. Это что за известие?
Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде ввел своих в лес, как уверившись, что неприятель стянул своих стрелков на дорогу. Спешив драгун с примкнутыми штыками, я оседлал ее, раскинув по чаще в обе стороны застрельщиков. Мы скоро нагнали отступающих французов: отряд их состоял из батальона пехоты при двух орудиях. Жалко и страшно было смотреть на обезображенных усталостию, морозом и голодом гренадеров; смешно бы было видеть их костюмы, если б мы сами не были убраны чуть не так же. И у них и у нас были люди в рясах, в балахонах, в женских шапочках, у кого нога в лапте, у кого в сапоге; мой вахмистр, лихой рубака, целых два месяца щеголял в салопе какой-то купчихи, а я сам был завернут в ковер, посереди которого прорезал место для головы. В столицах смеялись карикатурам бегства французов из России, но поход и бивачная жизнь нарядили и пас в их мундиры; пестрота была невообразимая!
Французский отряд шел медленно, зато в непроницаемом порядке, и с каждым разом, как мы порывались ударить на них, обращался и, твердой ногой ставши, отстреливался. Батальонный командир вился около своих, ободряя их словом и примером. «Allons, courage, mes enfants, – montrez les dents, camarades, serrez vos rangs, halte! Criblez-moi d'importance ces flandrins: ca tient,le coeur chaud; filez, filez, vous dis-je… feu!»[7] – и тому подобные приговорки лились у него рекой.
Всякий раз, когда перемежался огонь, голос его слышался громок и внятен. Видя невозможность успеть в нападении по узкой тропинке, мы следовали за ними, по временам меняясь пулями и бранью, которая со времен Гомеровых есть вечный припев сражений и подстреканий удальцов. Неприятельские орудия, подернутые морозом, скрипя и гремя цепями, прыгали через коренья литовских сосен; худые кони, натужась в упор, едва тащили их по гололедице – рвались, скользили, падали; наконец мы заметили, что одно из орудий стало отставать, отставать, и французы, видя, что ни бичом, ни криком нельзя ободрить коней, отпрягли их, загвоздили затравку, изрубили спицы и бросили пушку на дороге.