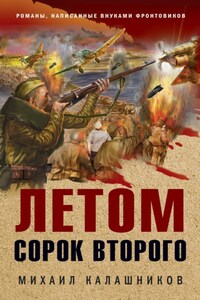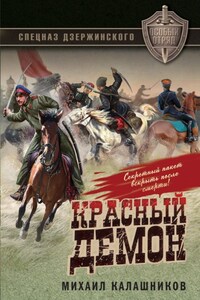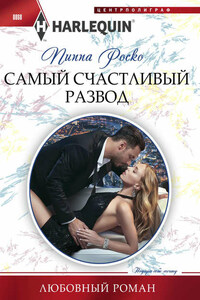Блеск натертой меди сыпал искры, играл лучами. Даже когда летняя духота и ставни снаружи затворены наглухо, духовая труба светится в полумраке хаты, ловит сдавленный, пролезший в щель меж оконных наличников солнечный подарок. Она и еще старая икона с ризами медной фольги освещают жилище. Доска в иконе потемнела, лик почти не виден, но перед Пасхой хозяйка снимала ее с покута[1], освобождала из-под стекла и чистила ризы от зеленых пятен ржави, натирала толченым мелом и бархоткой.
Тамара, старшая дочь хозяйки, смотрела на пучок света, ухваченный цепкой медью, любовно изучала плавный изгиб раструба, мундштук, клапаны. Отец ее играет в оркестре. Десяток инструментов, где девять человек раздувают щеки, а десятый, с толстым барабаном на груди, надувает их из солидарности с остальными. Каждый вечер субботы и по праздникам вальсы с маршами разносились в горсаду Белогорья.
Тамара и сегодня с нетерпением ждала вечера. Родители искупают детей, приведут в порядок себя: отец наденет купленный четыре года назад черный костюм и галстук, а мать – платье с круглым белоснежным воротником и легкие босоножки. Старший брат Виктор отделится от семьи еще на подходе к горсаду и убежит с погодками курить, спрятавшись за углом райисполкома. Мать будет калякать с подружками, придерживая руками свой беременный живот. Трехлетняя Зоя, держа ее за подол, наконец оторвется от него и станет ловить дразнящего ее Борю. Тамара же будет стоять, обнявшись с Антониной, и обе они не оторвут глаз от отца, выдувающего из «золотой» трубы басовые партии. А в перерыве между игрой отец спустится с деревянного помоста и купит всем по стакану фруктовой воды и мороженому.
Горсад и центр села клокотали праздничным приготовлением – районная выставка народного хозяйства. Стенды вдоль забора МТС, загоны и клетки для скотины. Напротив Дома Советов, рядом со сценой для духового оркестра, сколочена трибуна. У пивной бочки жмутся мужички, а бабы на обочинах развлекают друг друга сплетнями.
Ближе к вечеру – народу теснее. Тамара под руку с Антониной брела вдоль стендов. На фанерном щите пришпилен сноп ранней пшеницы, фотографии с прошлогодней уборочной, техника, отснятая крупным планом. Следом вереница загородок: рекордсменка удоя Зорька из колхоза «Путь Ленина»; чистые и расчесанные овцы из Саприно; свиноматка величиною в полугодовалого теленка – достояние колхоза «Имени XVIII партсъезда». Дегустационные столы: бруски нежно-розового сала, только что вынутого из ледника и еще не успевшего размякнуть в предвечерней жаре, запотевшие стаканы с молоком от той самой Зорьки, тающие во рту белые булки, несущие запахи и ароматы, пропитавшие хлебопекарню.
Чуть в стороне – торговые ряды. Много местных, но есть и пришлые. Вон дуванские торговки с другого берега Дона. Их легко отличить по ярким пучкам редиски и свежей зелени. Левый донской берег песчаный, там эта редиска растет лучше, чем на белогорских мелках, только поливать не ленись. Но на одной зелени в прибыли не будешь, и несут дуванские хозяйки на рынок творог, сметану, масло. Хоть и полно этого добра в Белогорье, а все же партийная верхушка здесь внушительней, чем в маленькой Дуванке, и расходится молочная продукция по рукам не колхозного, а служащего класса.
Дама увесистая и заметная, прохаживаясь вдоль рядов и изредка поправляя свою высокую прическу, бросает между прочим:
– Двадцать пять лет при Советской власти живем, а со спекуляцией никак не расстанемся.
Торговки хмурятся, но не отвечают, понимая, что связываться – себе дороже. И лишь одна старушка лет семидесяти отвечает:
– Это я-то спекулянтка? Ах ты, чертова свинья! Да я сама с огорода не вылезаю, все это моим горбом выращено! С рассвету до закату солнышко по темечку перекатываю – в поле да в огороде. Свое продаю, не краденое, не перекупленное!
Внушительных размеров матрона удаляется, не обращая внимания на летящие ей в спину проклятия, а соседки по прилавку шикают на старушку:
– Тише-тише, тетка Ганна! Не трогай ты ее, пускай идет себе.
Кто-то из белогорских баб, придя на крик, узнает в старушке давнюю товарку:
– Чего расшумелась, богоризка? Привет, что ли.
Та, повернув голову, на минуту сощурила глаза и тут же признала:
– И тебе не хворать, пайдуныха!
С давних пор прозвали дуванцы белогорцев пайдунами, а те своих соседей – богоризами. Что значит первое прозвище, теперь и сами дуванцы не вспомнят, а вот второе, по легенде, возникло от выходки одного из уроженцев Дуванки, спьяну всадившего в икону нож.
– Давнехонько не видались… почитай, годков семь или восемь, – сожалеет белогорская баба.
– Да где-то столько, как у нас церкву развалили, так и перестала ты к нам на престол ходить.
– Расскажи, как добралась. На себе, что ль, сумки-то тащила?
– Внук у меня, помощник Федюшка.
– А где ж он? Поглядеть бы. На тебя ли похож?
– Старым – старое, молодым – молодое. С хлопцами закружился, на стрелков, что ли, пошли. Уговорились с ним у парома встренуться. Коль я первая приду, так его ждать стану, ну, а если он рано отстреляется, так меня подождет. Да я и сама дойду. Расторговалась почти, теперь налегке.
Большая часть молодежи собралась на лугу, за крайними белогорскими огородами. Ворошиловские стрелки, гэтэошники и прочие, без особых отличий – все строились в очередь на стрельбу.
Виктор, брат Тамары, дождавшись своего часа, с нетерпением взял в руки мелкокалиберку. Было здесь много девчат. Стояли группками, любовались молодецкой удалью. Особо метких поощряли аплодисментами.
В стороне от мишеней, на высоких свежих столбах, крепился турник, к нему тянулась очередь потенциальных рекордсменов. К перекладине подошел смуглолицый юноша, скинул кепку и пиджак, поиграл плечами, размял руки. Из-под среза майки на груди его показалась неразборчивая татуировка. Тамара услышала негромкие девичьи переговоры вокруг себя:
– Гляди-гляди, черномазенький, ну как есть цыганенок.
– Чей это? Не белогорский вроде.
– Это с Дуванки. Он с братом моим знакомился. Федей, кажись, зовут.
Парень сложил руки в замок, встал на носки и потянулся. Затем пятерней закинул чуб назад и прыгнул, ухватившись за перекладину. Движения его были легкие, он без труда приподнимал свое поджарое тело. После пятнадцатого раза зрители невольно стали считать хором, все сбавляя и сбавляя ритм.
– Тридцать два-а-а-а… – протяжно тянули болельщики.
Одного раза недотянул задонский гость до планки местного чемпиона ГТО. Спрыгнул, уронив в пыль несколько градин пота, привычным движением поправил чуб и придавил его кепкой.
«Не вышло рекорда, – подумал он, – похвастал бы перед домашними, особенно Анютка б оценила».