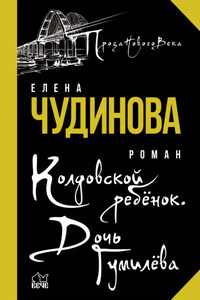Если с обеих сторон седла спустить по куску вервия с нескользящей петлей на конце, вскакивать на лошадь станет легче да и сидеть надежнее. Ногой в петлю попадешь не враз, потому снизу надобно оплести ее сыромятиной: петелька будет всегда сама раскрыта для ноги[1]. Есть и худая сторона: запутаешься в веревках, падая, – считать тебе колдобины затылком. Что ж, не надо падать, только и всего.
Девятилетняя резвая девчушка, не имея нужной силы в голенях и коленках, горазда была выдумывать всякие хитрости – женский подход к мужскому занятию. А нынешней весной ей сравняется двенадцать, но дело не в том. Теперь нельзя явить какую-либо слабость, ни ребяческую, ни женскую.
Вытащив нож, старый ромейский[2] нож со сточенным на две трети лезвием, Лыбедь двумя взмахами разделалась с ножными опорами. Теперь можно и седлать.
– Ну что, княжна, выступаем? – Хмурый Волок, новый воевода над поредевшей дружиной, столкнулся с девочкой на входе в конюшни.
Невеселая честь не слишком-то изменила молодого воина. Был он, как всегда, одет не по-зимнему, в пестрядь[3]. Только волчья шкура, наброшенная на плечи, сливалась цветом с косматыми бурыми волосами. Передние лапы сцеплены на груди застежкой, оскаленная голова свисает с левого плеча.
– Выступаем. – Встретившись взглядом с серо-желтыми глазами Волока, Лыбедь своих глаз не отвела.
Легкая ободряющая усмешка скользнула меж бурых усов и бородой. Словами воевода ничего не добавил и словно бы не приметил, что с седла княжны срезаны веревочные опоры.
Волоча свою не слишком тяжелую, но неудобную ношу, Лыбедь вошла в темный денник. Серая в яблоках крепкая лошадь встретила девочку негромким ржанием, в котором угадывалось и недовольство при виде сбруи, и радость предстоящему упражнению сил. Чтоб хозяйка не возомнила лишнего, кобыла чувствительно куснула ее – с умом – за волосы.
– Ужо тебе! – Лыбедь представила, какими противными сосульками оборотится в волосах лошадиная слюна. Но все ж вытащила из рукава кусок сырой репы. – Радуйся, обратно не понесу. Из-под носа у старухи стянула.
Покуда лошадь хрустела угощением, девочка, ловко вскинув седло, затянула подпругу. Выждала, взялась за ремень второй раз, достигнув, как водится, еще одной дырки. Известно, упрямое животное нарочно надувает брюхо, чтоб затянули послабей. Тут уж выжди, покуда лошадь выдохнет. Забудешь – на скаку поползет седло набок.
Накинув узду, девочка ненадолго задумалась. Задумываться теперь приходилось над каждым пустяковым шагом, но она начинала к этому привыкать. Взобраться в седло лучше здесь, в деннике. В случае промашки никто не увидит.
Но промашки не случилось. Вцепившись изо всей силы в гриву, девочка взлетела лучше и не надо. А все одно рассудила верно: перед строем бы непременно пришлось без толку ногой махать. Так оно всегда бывает.
Выплыв из ворот конюшни в светлое морозное утро, Лыбедь миновала терем с его службами и выехала на дружинный двор. Две дюжины, что собрались с ней, были уже в седлах. Столько же воинов оставалось стеречь Киев. Всё. Больше не было.
Льдистое безмолвие стояло над отъезжающими и провожавшими. Даже малые дети не плакали на материнских руках.
Лыбедь попыталась встретиться глазами со своей подругой Забавой. Не вышло. Та стояла рядом со своими, потупив взгляд, и тени, скользившие ярким днем по юному лицу, казались темней, чем спадавший на плечи Забавы серый плат козьей шерсти.
– Добрых стезей[4] тебе, Волок. – Поседевший в сизый цвет Дулеб неспешно выступил из строя. По справедливости воеводой следовало кликнуть его, но, памятуя о своем чужеродстве[5], о коем, кроме него, все давно позабыли, Дулеб сам себя отвел на вечевом сходе. – Добрых стезей и тебе, княжна.
– Крепких стен вам, неоскверненного порога! – легко возвысил голос воевода.
– Мертвые в помощь! – звонко воскликнула Лыбедь, посылая серую коленками.
Поезд стронулся. Впереди – верховые. Четыре пары пустых саней, по двое воинов в каждой, замыкали.
Недобрая примета оглядываться, но все ж Лыбедь, никогда не езживавшая дальше ловитвы