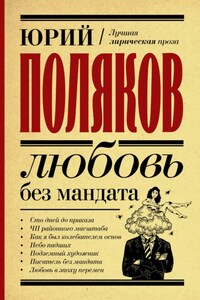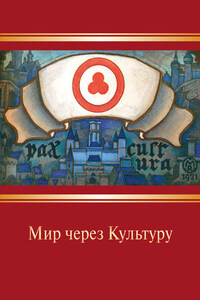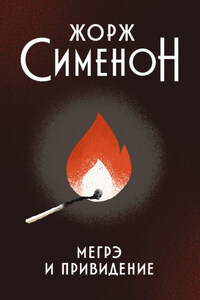1
…Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи – прапорщика Высовеня.
– Вставай! Трибунал проспишь! – сурово шутит прапорщик.
За окошком не утро, а знобкая темень. Ежась и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчутся несколько солдат – зародыши будущей полноценной шеренги.
В казарме возле изразцовой печки стоит сердитый, со следами сна на лице замполит дивизиона майор Осокин. Время от времени он резко дергает головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это – тик, последствие контузии, полученной в Афгане.
Рядом с замполитом томится наш комбат старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный неорганизованным подъемом вверенной ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость – фуражку-аэродром, сооруженную в глубоко законспирированном столичном спецателье.
– Давай, Купряшин, давай! – брезгливо кивает мне комбат Уваров. – Спишь, как на первом году! Защитничек…
– А что случилось? – совсем по-цивильному спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая уставными словосочетаниями, еще не проснулась. – Тревогу же на завтра назначили…
Старшина Высовень медленно скашивает глаза в сторону замполита, потом снова смотрит на меня, и в его взоре столько многообещающей отеческой теплоты, что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю обмундированием, на бегу опоясываюсь ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына, и замирает.
«Вот черт, – молча возмущаюсь я. – Второй день выспаться не дают!»
– В дисбате выспитесь! – обещает, вышагивая вдоль построенной батареи, старшина Высовень.
Нет никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обучали телепатии.
– А что все-таки случилось? – спрашиваю я стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механика-водителя нашей самоходки и неутомимого борца за права «стариков».
Зуб медленно поворачивает ко мне свое злое розовощекое лицо и не удостаивает ответом. Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда остригся наголо, чтобы к «дембелю» волос вырос гуще. Скажите пожалуйста, какой гордый! Дедушка Советской армии и Военно-морского флота! Значит, все-таки вчерашний ночной приговор в каптерке – акция, как говорится, долговременная! Ладно, переживем.
Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?
* * *
Вчера, за час до подъема, меня разбудил чей-то шепот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек, на табуретках, аккуратно лежало обмундирование, в черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом, на полу, стояли сапоги, обернутые вокруг голенищ серыми портянками. Возле каждого табурета – две пары сапог: одна – стоптанная, побывавшая в ремонте, другая – новенькая, с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные: внизу спят «старики», а наверху – молодежь.
Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками: сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом, который и разбудил меня. Разговаривали молодые – Малик из взвода управления и доходяга Елин, заряжающий с грунта из моего расчета. Их койки приставлены впритык, поэтому они были уверены, что их никто не слышит, но я разбирал каждое слово.
– Ты бы на сквозняк повесил! – советовал Малик.
– Я и повесил, – безнадежно ответил Елин. – Все равно воротник и манжеты сырые. Зуб теперь орать будет, что я плохо отжимал, а я вот – до мозолей выкручивал! – И он показал однопризывнику ладони.
– Может, обойдется! – успокоил Малик. – Все-таки праздник сегодня!
– Кому праздник, а кому… – Елин не договорил и ткнулся лицом в подушку.
– Терпи, будет и твой праздник!
– Не хочу я, не могу! – почти крикнул Елин.
– Не хочешь – заставят, не можешь – научат! – убежденно ответил Малик.
– Ребята, мы будем спать?! – возмутился из-под одеяла рядовой Эвалд Аболтыньш, еще два месяца назад разгуливавший «по узким улочкам Риги».
Никто не ответил, а через минуту все трое затихли: молодые засыпают мгновенно, им еще, как медным, служить до своего праздника, до своих ста дней!
Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое сто дней до приказа! А это значит, ты уже наполовину гражданский человек. Это значит, министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила. Не знаю, может быть, маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим «паркером» с золотым пером, но так уж считается: сначала он выбирает себе ручку, потом обмакивает ее в чернила, затем делает несколько пробных росчерков и наконец ставит автограф на известном каждому солдату документе, где есть такие священные слова:
«В соответствии с законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» приказываю:
1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск в запас в октябре – декабре 198… г. военнослужащих, сроки действительной военной службы которых истекают до 1 января 198… г.»
Затем идет второй пункт – о новом призыве, а за ним третий:
«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях».
Трижды, стоя в строю, я слышал эти слова, трижды провожал «стариков» домой.
Через сто дней мой приказ!
Накануне всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказ, и увольнение будут раньше обычного и что на это имеются веские внутри- и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а «дембель», говоря словами старшины Высовеня, «неотвратим, как смерть»!
Первыми узнают о приказе писари и сразу сообщают благую весть своим землякам. Под страшным секретом. Естественно, через полчаса об этом знает уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати, и начинается настоящая охота за газетами. Неизвестно, каким образом, но только номера с текстом приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся в кабинетах командира и замполита полка. А ефрейтор Симаненок (он уволился весной) просто-напросто делал на этих газетах маленький солдатский бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажиотажа, когда кое-кто отчаивался украсить свой дембельский альбом заветной вырезкой, Симаненок получал из дому здоровенную бандероль, набитую самыми разными газетами от одного-единственного числа. Понятно от какого. И еще: выпуск с приказом на первой полосе был единственным номером многотиражки «Отвага», расходившимся мгновенно и полностью. В любое другое время нашу газету (ребята называют ее «Стой, кто идет?!») можно наблюдать в самом неожиданном виде и в самом неожиданном месте.