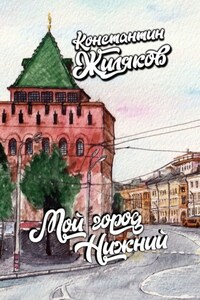С новыми порядками мой прежний образ жизни почти не изменился, но тем не менее появилось странное – наряду с захлопывающимися дверками (пространств) – ощущение внезапно подаренного (отнятого?) времени.
Вдумайтесь только – если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?
Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это все происходит – момент прорыва, выздоровления, – как торжествует былая небрежность, возвращается легкость сближения, касаний, свободы.
Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, все более явственными и отчетливыми становятся воспоминания. Ныряешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.
Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова, – на помощь приходят запахи.
Вот так пахнет лак, которым вскрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с легкой горчинкой, – так пахнет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости накануне долгой зимы.
А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка – она очень идет мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет – как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно – майка, джинсы, ускользающий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) двадцати, тридцати – слышишь, как ветви стучат в окно? Как ускоряется шаг?
Шабат, другой, третий, двадцатый – пятнадцати лет как не бывало – кажется, только раскидал все по полкам, только нашел квартиру, только подписал договор, только оплатил – дни, будто вырванные листки чековой книжки банка «Леуми».
Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.
Как пахнет тоска, как уголком загибается лист недочитанной книжки, как время пролистывает самое себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казенных корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.
Свет далеких окон, нежность скомканных слов (дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза), сопровождающих на каждом ухабе…
Как привычно склоняется к плечу разморенная светом голова, как смягчаются черты, обостренные знанием.
Как пахнет жизнь, подаренная… господи, ни за что, просто так, еще одна.
Новая, неизношенная, целая.
Вот эта женщина, бредущая под раскаленными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, – мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела) – я вижу ее отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) – и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, – он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора!) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишенным запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.
Ее ты проживаешь наспех, второпях, не успевая распробовать, – как оно там, за всеми стенами, окнами, рамами, – как же там дышится, как живется.
Вначале была река. Вокруг нее вырос город. Да нет же. Города не было. Ничего еще не было. Ни рыночных площадей, ни тюрем, ни школ, ни соборов, ни таверн.
Вначале была она. Река. Женщина. Мальчик. Дорога. Что-то, видимое только двоим, там, за линией горизонта.
Из удивительного в старом австрийском доме – полукруглая ванна, в которой хочется провести остаток жизни. Разумеется, в неге и роскоши. При такой ванне сами собой образуются туфельки, чулки, пояс, пузырьки с золочеными головками, обходительные мужчины с уложенными (один к одному) волосами, крахмальные манишки, развернутые салфетки, дамские шляпки, кучер, бокал из богемского хрусталя, полбутылки лафита, щипчики для кускового сахара, сам, собственно, сахар, да не это быстрорастворимое недоразумение, а такой, знаете ли, чтобы играл на зубах. Образуются неспешные беседы при свечах, бал у румынского посла, перебои с водой и электричеством, конки, трамваи, здание ратуши, томик Шиллера, Брамс, имперский размах и увядание, осыпающаяся штукатурка и проступающая сквозь нее плинфа, византийская вязь и латиница, румыны, венгры, австрияки, немцы, поляки, свиные ребрышки, вымоченные в вине, острый соус, серебряный соусник, красные крыши домов, разбитое сердце, пыль времен, высокие потолки, канделябры, старые фотографии, кружевные перчатки, синагога, костел, улица Эминеску, Штейнберга и Гете, кофе по—венски, скрип половиц, витые решетки, балкон, огромное зеркало, женщина в нем.