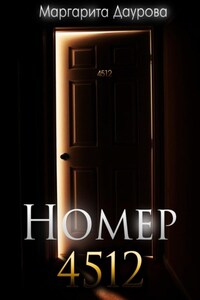Свою долю от добычи других Трафлин Пупин получает натурой со склада бизнесмена Иванова. Ночами. В полном одиночестве, весь уходя в слух, превозмогая в себе страх быть пойманным за руку, стараясь дышать серьёзно и глубоко, чтоб не ёкала селезёнка, только большое напряжение ума, требующее от рук, ног и спины работать много лучше, чем работают на ленинских субботниках, и меньше тратить нервность тела на писк электрических проводов, заставляют его отгружать в укромное место энное количество днём насмотренных досок. Это не было нахальным грабежом. Как говорится, птичка по зернышку клюёт и сыта. Этот Иванов только с виду мешок с опилками и слишком угрюм для хитрости, и «Капитал» Маркса знает приблизительно, но не приведи господи запустить в этот мешок руку или выбить из мешка пыль!
Бизнесмен Иванов живёт в своём двухэтажном тереме за высоким забором; рабочий Пупин половину суток хранит своё тело в тещиных покоях, половину суток, не до конца осознавая свою значимость для кошелька хозяина, возле деревообрабатывающих станков, штабелей досок и рычащих моторов. Ночь через две ночи он ночной обходчик. У Трафлина самодействующий разум, рассчитанный природой на сжатие и деформацию. За последние два года Трафлин пять раз менял хозяев, ибо ум истинного пролетария должен находиться в постоянном движении, вот остановился на Иванове, но не уверен, долго ли продержится. Не нравится ему Иванов. «На корабле капитан первый после Бога, я же, бывший мичман, первый после Бога в своём фарватере, я и профком, и партком, и мировой судья: не нравятся порядки – катись колбаской по Малой Спасской!» Мичманский рык не так страшит Трафлина, как родная тёща. Он даже подумывает составить предсмертную записку, чтобы в случае чего – живёт он, замордованный, в тесноте, в точности да покорности, в душевной несовместимости, кормится крохами, а жизнь кишит случайностями – долго ли до беды? Тёщу, Марфу Карповну, обязательно судить и дать пожизненный срок. До Иванова он работал у бизнесмена Лампадина. Уволился, дней пять шатался по селу, присматривался к расценкам, к пиву, искал работу по душе, а теща провела разведку боем, всё выяснила и зятя притянула к позорному столбу: «Опять хвост собаку крутит?! Да какого… да такого!..» И выносит приговор, окончательный и обжалованию не подлежащий: «Завтра иди к Иванову Сережке! Или стой у магазина и собирай милостыню! Не стыдно рожи будет? Хоть бы ребят своих постеснялся, жены! Ведь уродятся же такие обломы!..»
Мечтает Трафлин жить медленно и вкусно. Не обременительно хозяйством. Уж страсть ему по душе тихий шаг пролетарской лошадки, уважение к своей личности, а вот крики, мат, сгорбленный процесс работы, мысли о вечном долге перед Родиной, перед тем же Ивановым, привязанность к коллективу – как-то глупо, засохшая эпоха, потому и жил бесцельным мучеником. Тёща зятя зовёт «ну, ты», он её вынужден звать Марфой Карповной». Пока. Дом признан аварийным, как знать, вдруг повезёт, и они с Валентиной и двумя подрастающими хулиганами получат свой угол? Тогда бы эта Марфуша с кирпичной личиной бандита с большой дороги, и близко ему не надо! Теще везде до всего есть дело, даже ночью, приложив свою голову к телу жены, затихнув в наслаждении теплотой женского тела, он ждёт окрик: «Ну, ты! Не лапай!»
Если говорить честно, Марфа Карповна и лошадь, и бык, и трактор, и мужик. Она фельдфебель царской выправки, уже десять лет на пенсии, но продолжает работать санитаркой в больнице. Любит стриженных наголо мужиков. Стриженые – домовитые. Длинноволосые долго на этом свете не задерживаются. Плешивые – подозрительные и злые.
Когда жена Валентина видит проносящиеся мимо авто, у неё сердце подаёт набирающую температуру кровь бешеными толчками, в глазах плывут радужные пятна, холодеют икры ног. От машин она без ума. Так жаль, что муж самый настоящий пентюх, и в кладовке валяются два ржавых велосипеда.
Сыновья так себе, неоперившиеся птенцы. Старший качает мускулы, собирается в армию. Младший – воображала и лентяй. Буду, говорит, врачом-гинекологом. Бабка против: «Лодырь никогда не преуспеет в своём ремесле!»
На столбе горит, освещая низовую скудость земли, одинокий, будто утоплый, фонарь. Погода сегодня изменилась: встал низовой, отираемый теплом ветер – всё шло к весне. Жизнь по всем приметам должна расширяться в добром направлении, пускай на небе звезд по кулаку не было, и белела одна, как расплёсканная мелким бисером молочная дорога – она текла широко и сильно, до тепла было далеко.
Увы, иного пристанища для Трафлина Пупина просто не было. Встав на пост, он первым делом надышал на стекло оконца сторожки туману, поглядел вправо, посмотрел влево и стал смотреть прямо, раз глядеть ему было больше некуда. Он стоял и глядел в тусклую глушь, потому что имел восемнадцать лет непрерывного стажа и сердце рабочего, задавленного нарастающим капитализмом. Стоял, чего-то ждал, но свежий лаконизм жизни так и не посетил его. Побрёл по объекту, потоптался между штабелями материала. Как саженью, прикинул глазами ширину небесной молочной реки, помножил оказию на разделяющие, бешено мчавшиеся тысячи световых лет, позавидовал окнам ближнего дома. В окнах гас свет; там спали, либо полуспали, либо храпели до черноты люди. Долго светилось крайнее окно на втором этаже. Воображением Трафлин нарисовал себе живущую в той квартире одинокую женщин, ещё не уклонённую в старость: из себя гладкая, чернобровая, плутовские глаза, губы припухли от слёз. Она стоит в одной сорочке над горшком с цветами, нюхает, она любит цветы; срывает красный бутончик, растирает в руке, вздыхает… Она устала, но сон бежит от неё прочь. Хочет поглазеть в окно на пустынный мир вещей, залитых фосфорическим снежным сиянием, на укороченную сугробами дорогу, только отодвинет занавеску, а черти со всего села роем слетаются на свет; задергивает занавеску и сидит, и рвутся её тревоги из глухоты к сомкнутому страданью.
Пропитанная насквозь затхлым табачным дымом хибарка, сломанный телевизор в углу, диван с вывалившимися пружинами, тикающие часы на стене, куча халатов, телогреек, валенок, на столе его могущество Телефон. Трафлин стрижен боксом, по тёщиным меркам «еврей ещё тот», лицо скучное даже для зевоты; он смотрит на медленно тлеющий огонёк в железной печке, его мысли находятся в окружении житейских страстей, ему жалко, что вот как он, вынуждены жить в эту ночь по всей стране тысячи мужиков и получать мизерную зарплату. Нет чувства материального достатка, нет! За своей долей законного отъёма он сегодня не пойдёт: Иванов толкнул на Москву всю готовую продукцию. Лихо зимой коротать ночь в дощатой хибарке, вот дожить бы, как заходит по селу слабоногий южный воздух, заявят о своём транзитном перелёте журавли!.. Рай христов, не жизнь!