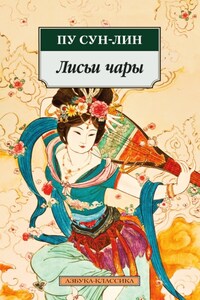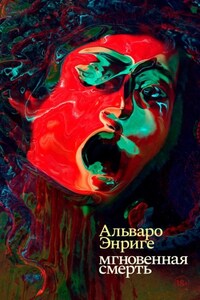За неделю до разрыва с Никитой она задумалась так глубоко, что нечаянно прошла сквозь витрину в торговом комплексе на Манежной площади. Это было новое тревожное ощущение – пройти сквозь стекло. В каждой клеточке тела осталась тягостная боль-предчувствие. Тогда она сдалась и признала: расставание неизбежно.
За два дня до разрыва с Никитой она полночи сидела на подоконнике, вслушиваясь в свист вьюги, прижимаясь щекой к ледяному стеклу. Вспоминала свою любовь с первого дня, с первого слова, как будто такой отчаянной дотошностью можно было что-то исправить. Именно в эту ночь она потеряла имя. Незаметно, нечаянно забыла его – окончательно, необратимо.
Почти неделю после разрыва с Никитой она кое-как держалась, существовала кисейной барышней на кофе и халве, порхала по Малой Дмитровке сквозь снегопад. Но к полуночи восьмого дня всё-таки сорвалась, задумалась глубоко и основательно, вследствие чего оголодала до чёртиков и уже за полночь навернула два бутерброда с холодцом и горчицей. На тёмной кухне, под присмотром мерцающих в ночи фонарей и редких светящихся окон, присматривавших за ней как лисьи и волчьи глаза, ела она бутерброд и давилась слезами, всхлипывая и рыдая от предсказуемости всего случившегося.
В первый день весны она торопливо зашнуровала ботинки и поскорей отправилась на улицу. Ожидала, что кислинка наступившего марта вложит ей в душу немного тепла. Угрюмо ковыляла по щиколотку в весеннем месиве. Пропиталась тоской сугробов в чёрных кружевах и размякших окурках. Никакого обновления не случилось. Осталось только удивляться, как же обозлили её эта долгая зимняя размолвка, потеря имени, гибель любви и неизбежное расставание. Ум стал жестоким, пропитался язвительным ядом и превратил её за эту зиму в незнакомое чудовище, которое теперь месило стоптанными ботинками грязь ранней весны. От отчаянья и чтобы хоть как-нибудь утешиться, она занялась инвентаризацией окружающих отталкивающих существ, подсчётом монстров. Стоило только решиться, будто бы на её зов чудовища выползали из укрытий и предъявили себя во всём своём грандиозном безобразии. Чудовище № 1 позвонило в дверь квартиры. Безымянная выглянула в глазок, спросила кто. В ответ ей предложили присоединяться к празднованию «годовщины смерти Иисуса Христа». Чудовища № 2 и № 3 запустили петарду в мусоропровод. Всю следующую неделю в подъезде пахло палёным и жареным, будто здесь располагался экстренный филиал ада. Чудовище № 4 исполняло роль многословного депутата на Первом канале центрального телевидения. Чудовище № 5 писало по скайпу чудовищу № 6: «Я тоскую, дружище. Я вспоминаю, какими мы были раньше. Мы летели. Мы были цветами. Теперь мы сломались, обросли иглами, уродующим панцирем, защитным вооружением вроде косых улыбочек, многозначительных усмешек и сарказма. Мне больно быть монстром. Я тоскую по нам прежним». К концу марта её список чудовищ перевалил за сто.
В начале лета сестра, неожиданно забыв обиды, пригласила за город, погостить в покосившемся, слепленном из заплат доме прабабушки. Наверное, следовало сразу же отказаться. Или пространно пообещать, что заедет на выходных, ближе к августу. Но предстоящим летом потерявшая имя надеялась забыть или как-нибудь обмануть всё случившееся. Она мечтала истощить или как-нибудь нечаянно утратить неподъёмный панцирь цинизма и насмешек, нажитый за зиму. Она мечтала превратиться из монстра обратно, в себя прежнюю. Она так хотела вспомнить своё имя и услышать, как кто-нибудь шепчет его: нежно, растроганно. Именно поэтому она сразу же согласилась.
Через несколько дней после переезда на дачу потерявшей имя впервые в жизни отказал мужчина. Это было так неожиданно и драматично, что она даже не смогла расплакаться. Она окаменела, чувствуя вот это – невыносимое, ртутное в самом центре груди. Как будто там внутри медленно расцветала пепельная роза – доказательство того, что смерть существует. Ведь потерявшая имя была уверена: всякий отказ, любая нескладная любовь – не что иное, как доказательство смерти, тайные зловещие знаки неминуемого исхода.
На этот раз смерть выдохнула ей прямо в лицо в полуночном саду. В тот вечер они с сестрой засиделись на террасе, старательно проговаривая все беды последнего года, словно надеясь таким образом выпроводить их вон из своей жизни. От сестры она нечаянно узнала, что освободилось место в коворкинге, на Цветном бульваре. Украдкой выбежав с телефоном в тёмный шумящий сад, потерявшая имя позвонила Никите, просто так, как будто лишь хотела поинтересоваться, не смогут ли они с осени работать там по очереди. На самом деле ей хотелось услышать его голос. Она надеялась на примирение, она ждала раскаянья. И на всякий случай была как никогда прозрачной, уступчивой, совсем домашней. А он неожиданно прохрипел из трубки неблагозвучное: «Хватит». И резко, грубо прорычал, что не надо больше звонить, что больше ничего никогда не будет между ними, ничего и никогда. Потому что они совсем не про друг друга. На следующее утро потерявшая имя проснулась на террасе, на жёстком диванчике, в скрипучем холоде июньского восхода, в злодейской нехорошей пустоте. Последующие несколько дней ртуть этого разговора отравляла её изнутри. Такое с ней приключилось впервые. И безымянная горевала, горевала бескрайне, так толком и не разобравшись, приснился ей этот разговор или произошёл на самом деле. Вполне возможно, Никита той ночью видел тот же самый сон. И во сне он умышленно отказал ей, окончательно расставив все точки, уничтожив любые обходные пути. С тех пор его номер всегда был недоступен. Это и было окончанием их любви.
Кое-как справившись со свой мимолётной смертью и неминуемым расставанием, потерявшая имя решила посвятить лето возвращению доброты. Она не знала, что надо делать, чтобы осуществить превращение из отравленного чудовища обратно. Она не представляла, как именно сбудется возврат утраченного. Зато она заранее придумала опознавательный знак: если доброта к ней всё же вернётся, если душа и ум снова наполнятся лёгким золотистым сиянием, этим летом она увидит махаона. В поле, распираемом от полуденного жара, когда каждая травинка просвечивает насквозь под пышущим солнцем июля, она увидит махаона, рассекающего крыльями разгорячённое небо. Он явится ей как парусник – мерцающий, играющий с ветром. Он будет искриться на фоне моря трав жёлтым и чёрным. Он будет мелькать на фоне облаков алым и синим. Он будет сама жизнь, все мечты, всё заповедное и невозможное.
В то лето, неторопливо гуляя с сестрой и трёхлетней племянницей Настенькой мимо чужих огородиков, теплиц и беседок, потерявшая имя смотрела во все глаза, ждала появления своего махаона и из-за этого горевала чуть меньше. В то лето она как никогда научилась видеть и замечать живое и мёртвое, тайное и явное, а подчас и вовсе не существующее: восемь белых коз, шествующих по тропинке понурым маршем, ястреба, скользящего над шоссе, умершую три года назад соседку-коровницу, белую колоколенку на том берегу ручья, трёх стариков из разных фильмов Кустурицы, собачий ошейник, обронённый посреди тропинки, далёкие звуки аккордеона – на турбазе, за сосновым лесом. Но заветного махаона нигде не было.