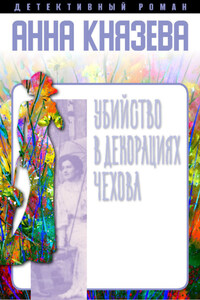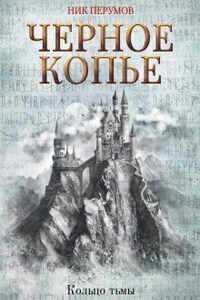Мои родители познакомились в аэропорту. Перепутали свои паспорта на стойке регистрации и разошлись – каждый в свою сторону, каждый – с чужим паспортом в руках. Потом папу объявляли по громкой связи и просили подойти к справочному бюро. А потом двое этих рассеянных с улицы Бассейной вместе пили кофе в аэропортовском кафетерии, после чего уже их обоих объявляли по громкой связи и просили срочно пройти на посадку.
Сегодня, сорок с лишним лет спустя, единственные материальные свидетельства той встречи, последующего романа и брака – это небольшая стопка писем, которые перелетали в маркированных конвертах через весь Союз – из Москвы во Владивосток, и несколько пластинок Муслима Магомаева, которые папа подарил маме в первый год их знакомства. Вот и всё. Хотя нет, не всё. Ещё, конечно, я. И у меня – папины глаза и его терпение, мамины пальцы и её свободолюбие, а от той атмосферы самой первой их встречи – бесконечная любовь к аэропортам, самолётам и путешествиям. Стюардессой когда-то мечтала даже стать. Вот почему-то не стала.
Я сижу на полу в большой комнате маминой квартиры и разбираю кипы бумаг, которые десятилетиями копились на полках шкафов. Вся комната залита послеполуденным солнцем, – окна выходят на запад, – и в этом тёплом свете пожелтевшие страницы тетрадей и блокнотов, конверты и листочки писем шелестят, как опавшие листья. Я называю эту квартиру «маминой», я так давно не называла её «нашей», хотя прожила здесь почти тридцать лет… Просто с того дня, десять лет назад, когда я ушла, у меня сразу же пропало ощущение, что это мой дом. Даже ключей от него у меня не было… Теперь это ощущение «моего», «нашего» дома постепенно возвращается. Но оно с привкусом горечи. Потому что ни папы, ни мамы здесь уже нет. Папа умер несколько лет назад. А маму в прошлом месяце я отвезла в дом престарелых…
Я сижу на полу и рву на мелкие клочки страницы маминых последних «дневников». Десятки тонких школьных тетрадок, исписанных её аккуратным, круглым упрямым почерком. На обложке каждой написаны месяц и год, начиная с того самого момента, как я, сунув пару самых нужных вещей в пакет, закрыла за собой дверь этого дома и ушла навсегда. В этих тонких тетрадках в клеточку годами, день за днём бережно копилось, настойчиво и кропотливо взращивалось то, что и привело маму к болезни. Сотни, тысячи слов, сочащихся болью, ненавистью, отчаянием вперемешку с любовью, ревностью и обидой: на меня, на папу, на весь мир… Я читаю их, и рву, рву, рву на мелкие кусочки – бесконечно долго, до мозолей на пальцах. Если бы я могла вот так же уничтожить то, что навечно уже поселилось в маминой голове и затуманило её взгляд.
Почему я так отчетливо помню сон, который видела в раннем детстве, когда мне было года четыре, наверное… Мне снилось, что я одна возвращаюсь домой с прогулки, захожу в наш подъезд и начинаю подниматься по лестнице. Мне нужно на четвертый этаж, но добравшись лишь до второго – туда, где голубеют ряды почтовых ящиков, – я останавливаюсь и замираю от ужаса: на полутёмной площадке, прямо на выложенном плиткой пыльном полу под этими почтовыми ящиками лежит старуха: седые длинные всклокоченные волосы, бурые лохмотья вместо одежды – настоящая Баба Яга из сказок. Она лежит и будто бы спит, я даже слышу её негромкий храп. И мне до того страшно, что я не могу пошевелиться, не могу сдвинуться с места: мне нужно пройти мимо неё, подняться домой, а я боюсь, что она услышит, проснётся, вскочит и вцепится в меня. И я стою неподвижно, не отрываясь, гляжу на эту старуху и почему-то знаю, что это – моя мать. Мне всего четыре года, и мама – молодая ещё, привлекательная женщина с густыми, волнистыми каштановыми волосами и весёлыми зелеными глазами, подвижная, спортивная, смешливая, и я так люблю её. Но здесь, во сне, я скована ужасом и не могу пройти мимо этой Бабы Яги, храпящей на полу лестничной площадки, и я точно знаю, что это – моя мать. Вдруг я замечаю, что жуткая куча грязных лохмотьев начинает шевелиться… я с жалобным, отчаянным криком срываюсь с места, и – просыпаюсь.
* * *
Мама родила меня в сорок с лишним лет. До папы она трижды была замужем, но без детей. Я у неё одна. Думаю, она никогда не горела желанием завести ребёнка: много путешествовала, увлечённо работала, училась в аспирантуре. Когда я спросила её, почему всё-таки она решилась на меня, мама махнула рукой: «Да родственники всё пели – рожай, да рожай». После, подумав, добавила: «Просто в какой-то момент мне стало казаться, что я делаю что-то не то, чего-то не хватает… И потом, твой отец… каким бы он ни был хреновым мужем, сразу было понятно, что ребёнка он воспитает».
Она, конечно, хотела сына. В семье у нас одни девчонки: у бабушки три дочери, у маминых родных сестер – по две дочки, в общем, – бабье царство. Было бы очень забавно, если б снова родилась девочка. Но вот я и родилась. В те годы ещё не определяли пол ребёнка до его рождения, так что интрига сохранялась до самой последней минуты. Ну, то есть, до самой первой минуты жизни нового существа. «Девочка!» – изрекла акушерка, и мама с усталой досадой отвернулась к стене, мысленно чертыхнувшись: «Опять девка. Да ну её совсем!». Но в следующую секунду её что-то встревожило и, усилием воли сосредоточив готовый уже уплыть в сон мозг, она поняла: тишина. Не было крика. С трудом оторвала голову от жёсткой плоской подушки и увидела, как акушерка хлопает большой ладонью по крошечной, синевато-багровой попке. От второго или третьего шлепка я подала голос: не закричала, нет, а только пискнула негромко и заплакала. «Мне стало жалко тебя в тот момент, – не раз повторяла мама свой рассказ. – И я подумала: ладно, девка так девка, что уж теперь поделаешь».
Мне уже сорок с лишним. И у меня до сих пор нет детей. И желания их заводить тоже нет. Как и родственников, которые бы постоянно пели: «Рожай». Лет в тридцать у меня был порыв усыновить ребёнка. Я понимала уже, что замуж не выйду. Немногочисленные и недолгие попытки встречаться с парнями оставили лишь пресный привкус той самой «not my cup of tea», и совершенно ясно было, что это совсем не моя история. Поэтому я не виню в этом маму. Да, она твердила мне с самого детства, что все мужчины – мудаки, и что прекрасно можно прожить без них, но, конечно, не это сыграло решающую роль. Я просто никак не встречала «того самого человека», и поэтому смиренно приготовилась к одиночеству на всю жизнь. Но мне почему-то казалось, что ребёнка всё же надо завести, пусть приёмного, и что, наверное, это даже лучше, потому что так ты спасаешь и делаешь счастливым малыша, которого бросили и обрекли на унылое детство в казённом учреждении. Возможно, мне казалось тогда, что только если я сама стану матерью, я разорву эту мощнейшую, уже начинающую меня душить связь с мамой. Но теперь я понимаю, что нет, не разорвала бы. Мама, как это ни странно, с энтузиазмом поддержала мою идею с усыновлением, и даже вместе со мной сходила в Отдел опеки и попечительства на собеседование. Она везде ходила со мной. Везде и всегда.