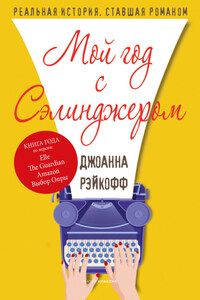Летом 1972 года я принес в редакцию журнала «Аврора» рукопись повести, действие которой происходило на подводной лодке. Повесть прочли, и решено было ее печатать, но еще через какое-то время тогдашний зав прозой этого журнала писатель Глеб Горышин молча показал мне гранки, вернувшиеся из контрольной инстанции. Сказать, что текст пестрил пометками, значит не сказать ничего. Полосы с оттиском были, если здесь уместен такой глагол, просто исполосованы красной шариковой ручкой.
– Подставляешь нас, старик, – мрачно сказал Глеб. – Говорил, что пишешь про простую лодку, а морская цензура обнаруживает, что, оказывается, про атомную… Тебе известно, кто в этом случае дает разрешение? Нам, например, неизвестно.
Про атомную в тексте не было ни полслова. Ни про реактор, ни про сопутствующую аппаратуру, ни про особенности управления.
– Ты это кому говоришь? – совсем уже мрачно спросил Глеб.
Принцип, по которому были сделаны замечания, уловить я не мог. Подчеркнуты, а чаще перечеркнуты крест-накрест были места самые неожиданные. С каким-то странным ожесточением, чуть не до того, чтобы прорвать бумагу, было вымарано, к примеру, слово «маневры». Поверху зачеркнутого стояло: «ученья».
– Сто восемнадцать претензий, – пробурчал Глеб. – Хочешь разбираться – иди к Володе…
Володей был поэт Торопыгин, главный редактор. У Володи, человека редкой доброты, был свекольный цвет лица и удивительные глаза – круглые, ласковые и, в любом состоянии их хозяина, – все понимающие. Первое, что сделал Володя, еще не здороваясь и не отрывая от меня выпуклых глаз, это опустил руку куда-то под стол. Там звякнуло.
– Знаешь, – сказал он, когда мы выпили по второй, – а что, если тебе самому к ним поехать?
Имелась в виду военно-морская цензура, в которую повесть переслали из цензуры обыкновенной. То были годы, когда ни Торопыгин, ни кто бы то ни был другой не имели права сводить автора с цензором. Официально, что существует цензура, автор не имел права даже знать.
– Где это территориально? – спросил я.
Володя сказал, что «это» – в Кронштадте, непосредственно в редакции флотской газеты.
– Если скажешь, что послал тебя я, меня снимут. Про гранки скажешь, что сам схватил в редакции со стола. Добавь – что пришел в ярость. Да, да – в ярость! Так прямо и скажи. Что они тебе сделают? Счастливо!
Однокурсники мои по военно-морскому училищу еще вовсю служили, и пропуск в Кронштадт я добыл без труда. В Кронштадт ходила рейсовая «ракета».
Когда, войдя в кабинет цензора, я сказал о причине своего появления, капитан второго ранга, он был один, скользнул глазами вокруг. Возможно, в поисках тяжелого предмета. Разговор начинался трудно. Он не имел права со мной разговаривать, я не имел права его искать. Но я уже стоял в его кабинете. Минуту-другую мы, стоя, орали друг на друга, пока он, вероятно взвешивая возможные последствия вызова матросов для моей насильной депортации, соображал. Затем он перешел на тон более спокойный, а вскоре мы сели над рукописью, и он вообще превратился в очень толкового и логично рассуждающего человека, хотя логика его была совершенно особой. Пытаться угадать, что через секунду услышу, можно было с тем же успехом, как вычислить, где в следующий раз вылезет скрывшийся в землю червяк.
– Чем вам, например, не понравилось слово «маневры»? – спросил я. – Почему его нельзя употреблять?
– А потому, – помолчав, сказал он, – что ваш текст мог проинформировать наших потенциальных противников об участии атомных подводных лодок в маневрах апреля 1970 года на Северном флоте.
– Каким образом? – опять чуть не заорал я. – У меня нет ни слова об атомных…
– На дизельных лодках бывали? – прищурившись, спокойно спросил он.
– Приходилось.
– А на дизельных фруктовый сок в рацион экипажа входит?
И поскольку я молчал, он опять очень спокойно резюмировал:
– В вашей повести говорится, что в рацион экипажа входят соки. Значит, какая это лодка? Атомная. И куда идет эта лодка? На «маневры». А маневры, если вы не знаете, на Северном флоте были единственные – это маневры «Океан» к столетию со дня рождения Ленина, то есть апрель 1970-го. Учений было много, а маневры – единственные. К тому же у вас говорится о «цепи лодок, подобных» вашей, которые получили на «маневрах» каждая свой «квадрат». То есть участвовала уже не только ваша, а еще и другие, подобные ей, то есть атомные… Вопросы?
– Послушайте, – сказал я, почти изумленный степенью преступности своего ротозейства. – Но ведь это все не один к одному… Ну, давайте уберем этот треклятый сок… И эти маневры, будь они…
– Серьезный разговор серьезного человека, – сказал он.
И за двадцать минут мы общими усилиями убрали вслед за «соком» и «маневрами» сто шесть его замечаний.
Чтобы убрать остальные двенадцать, времени потребовалось больше. К примеру, как назвать межотсечную систему связи? Оказалось, что по цензурным правилам называть ее нельзя было ни истинным названием, допустим, «каштан», ни выдуманным, допустим, «платан».
– А каким же тогда можно? – спросил я.
– Сейчас я вам скажу…
И он открыл свой шкаф. Там было несколько полок с толстыми, пальца в два или три толщиной, томами, содержавшими запреты. Знать не то что о содержании, а даже догадываться о существовании этих секретных кирпичей простой смертный права не имел.
– Вы можете, – полистав один из этих кирпичей, сказал мой собеседник, – назвать вашу межотсечную систему связи, например, так…
То, что разрешал упоминать в открытой печати секретный перечень, звучало польско-африканским. Что-то типа ХРЖЦ, тире и еще какое-то пятизначное число. Такое наносится сквозь трафарет на крышки защитного цвета ящиков оборонной промышленности.
– А слово «телефон» – тоже секретное? – не удержавшись, спросил я.
Словно дожидаясь, пока о нем вспомнят, на столе у него зазвонил аппарат. Укоризненно посмотрев на меня, цензор взял трубку.
– Занят, – сказал он. – Нет, не ждите… Так на чем мы остановились?
Я поблагодарил его за ХРЖЦ и сказал, что читателю, если все-таки дойдет до печати, будет проще понять смысл действия персонажей, если они будут просто орать в переговорную трубу.
Прошло всего часа полтора нашего знакомства, но я вдруг почувствовал с ним странное единство – у нас образовался клуб с предельно узким членством. Основой этого клуба было недавнее, два часа назад еще горевшее пристрастием отношение к некой сотне страниц. Никто, как мы, так буквально и подробно не знал этот текст – я, его сочиняя, а он, норовя его уничтожить. Но прошли эти два часа, и ни малейшего ожесточения ни во мне, ни в нем уже не оставалось. И теперь мы уже мирно брели по изъезженным страницам. Он – должно быть, недоумевая, что уже не обнаруживает казавшегося ему несомненным диссидентского коварства, я – еще больше удивляясь запальчивости, с которой боролся за сомнительные удачи. Вероятно, так ветераны, воевавшие на противоположных сторонах, могли бы озирать заросший бурьяном косогор, который сорок лет назад одни готовы были ценой жизни захватить, а другие такой же ценой удерживать.