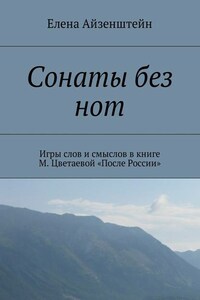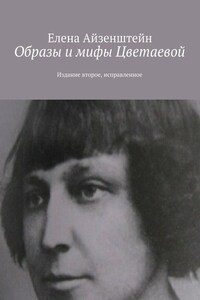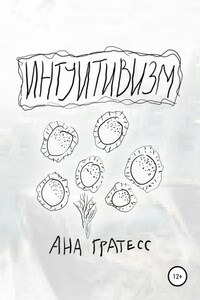«Добраться до сути»1
Цветаева в книге Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского
В числе книг, сравнительно недавно пришедших к читателю, книга Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского»2. Автор книги воспринимает Маяковского глашатаем тоталитарного режима и пытается расплатиться с поэтом за воспетое им «коммунистическое далеко». А заодно кидает камень в тех, кто, по его мнению, близок Маяковскому. Среди них – Марина Цветаева. По словам Ю. Карабчиевского, Цветаева – поэт, испытавший «внедрение, неотвязное присутствие Маяковского в своей душе». Критик утверждает, что после стихотворения, обращенного к Маяковскому («Превыше крестов и труб…»), в творчестве Цветаевой наступает перебой: в него начинает подспудно «внедряться» поэтика Маяковского. А «способ выражения – через конструкцию, через лозунг и декларацию – становится для Цветаевой „способом восприятия времени, способом понимания мира (нового)». Конструктивизм в отношении к слову, по Карабчиевскому, повлиял и на мировосприятие Цветаевой. Она шаг за шагом приближается к признанию СССР и его режима, прославляет его, едет из Парижа в Москву и, попав в этот ад, кончает жизнь самоубийством.
После чтения главы о Цветаевой возникает чувство, что Ю. Карабчиевский не слишком вдумывался в строки Цветаевой, а лишь выписывал удобные для его версии. Так случилось и со стихотворением, которое критик назвал «водоразделом» между «ранней» и «поздней» Цветаевой. Стихотворение «Маяковскому» не имеет того веса в цветаевском творчестве, какой дает ему критик. Оно написано Цветаевой 13 сентября 1921г. В Москве ходили слухи о смерти Ахматовой, и именно Маяковский сообщил Цветаевой, что Ахматова жива. Просматривая в 1923 году черновую тетрадь 1921 года, под стихотворением «Маяковскому» Цветаева сделала помету: «В благодарность за Ахматову». Об этом же – запись Цветаевой в тетради 1939 года: «Владимиру Маяковскому, единственному из московских поэтов, обеспокоившемуся проверить мнимую смерть Ахматовой». Для Цветаевой это стихотворение представляло ценность именно в связи с Ахматовой, оно не было серьезным обращением к Маяковскому, «спасибо» в стихах, не более. Это нетрудно понять, если сопоставить его с циклом «Маяковскому», который Цветаева пишет в 1930 году, потрясенная смертью поэта.
Не обошелся Ю. Карабчиевский и без явных подтасовок. Так, для подтверждения родства поэтики «поздней» Цветаевой и Маяковского критик приводит строки поэмы «На красном коне», относящиеся к 13—17 января 1921 г., то есть написанные, по его же классификации, «ранней» Цветаевой, до стихов «Маяковскому». А цитируя фрагмент статьи «Эпос и лирика современной России», об отношении к России Маяковского и Пастернака, критик намеренно (?) дает мысль Цветаевой в усеченном виде, что полностью искажает авторскую мысль: «Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века (1932 год – Ю. К.); отношению к России. Здесь Пастернак и Маяковский – единомышленники. Оба за новый мир…» Далее следует комментарий критика: «От такого текста уже недалеко до челюскинцев, и да здравствует, и все это – путь из Парижа в Москву и дальше – в Чистополь и Елабугу…". Говоря, что Маяковский и Пастернак «за новый мир», Цветаева далее делает оговорку: «Оба за новый мир – и оба, – но вижу, что первое оба останется последним, ибо если Пастернак явно за новый мир, то вовсе не с такой силой явности против старого, который для него, как бы он ни осуждал политический и экономический строй прошлого, прежде всего и после всего – его огромная духовная родина. «Кто не с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «атакующим классом». Его мы – все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество – общее дело, творимое уединенными». И далее она добавляет: «Единомыслие – не мера сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники – если не вся Россия, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случав, более явный единомышленник Маяковскому, чем Пастернак». Цветаева отчетливо понимала разницу между восторженным приятием СССР Маяковским и менее восторженным «единением» со страной Пастернака, его попытками «жить думами времени, и ему в тон». В 1932 году Цветаева заметила то, что Пастернак сформулирует о себе много позднее. По словам Бориса Леонидовича, его «единение с временем перешло в сопротивление ему лишь в 1936 году, у Цветаевой – было ли оно когда-нибудь?
Удивляет трактовка и выбор остальных цитат из цветаевских текстов, например, «Челюскинцев». Критик считает, что сначала Цветаева в этих стихах славит СССР, а потом в дорогу начинает собираться, из Парижа в Москву… Победа людей над стихией – тема, волнующая Цветаеву в этом стихотворении. Она человек огромной щедрости. Отдавая дань восхищения русским людям, сумевшим совладать со стихией, она славит и страну, гражданами которой они являются. Заметим, что главные строчки у нее – всегда последние:
Сегодня – смеюсь!
Сегодня – да здравствует
Советский Союз!
За вас каждым мускулом
Держусь – и горжусь:
Челюскинцы – русские!
Стоит добавить, что «Челюскинцев» Цветаева написала после письма поэта Эйснера, упрекнувшего её, что она не откликнулась на подвиг челюскинцев. Письмо Эйснера Цветаева восприняла «запросом» (времени? века?), и родились стихи. Такого рода предыстория не характерна для Цветаевой, интересно и показательно, что из всего ее творчества Карабчиевский обратился именно к этому стихотворению.
Совершенно иначе тема «челюскинцев» звучит в письме 1935 года к поэту Тихонову, в котором Цветаева с горечью вспоминает свой диалог с Пастернаком во время пребывания Бориса Леонидовича на антифашистском конгрессе в Париже:
«… От Б. – у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь.
Как мне – тогда <…> на слезы: – Почему ты плачешь? – Я не плачу, это глаза плачут. – Если я сейчас не плачу, то п <отому> ч <то> решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась – что тут же перестала плакать.) – Ты – полюбишь Колхозы!
…В ответ на слезы мне – «колхозы»,
В ответ на чувства мне – «Челюскин!»
Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я – тех старичков – кладбищенских. Здесь слова «колхозы», «Челюскин» являются антиподами человеческих чувств, символами той новой России, которую Цветаева принять не может.
«Челюскинцев», стоящих несколько особняком в творчестве Цветаевой, окружает лирика иной направленности, воплощающая цветаевское отталкивание от того мира, от того века, в котором она живет. «Век мой – яд мой, век мой – вред мой, век моя – враг мой, век мой – ад», – лейтмотив отношения Цветаевой к своему времени. Это было неприятие и эмиграции, и СССР. «Двух станов не боец, а – если гость случайный…", – таким видится ей поэт. Своё эмигрантство Цветаева ощущала не в рамках земных границ и стран, а в космическом масштабе! «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. <…> Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо». Тоска по тому небу, до той свободе, по тому уединению пронизывает лирику Цветаевой 20-х – 30-х годов: