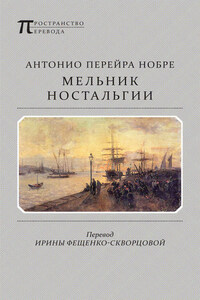Волна, внедорожник, букет…
– Ни хрена себе, – внезапно проснувшись, со всхлипом выдохнул Рыбников. Он сидел на кровати в холодном поту, сердце его стучало безумным набатом.
«Приснится же такое», – успокоившись, подумал он. Спустив ноги, нащупал тапки, нехотя поднялся. Кровать проводила его натужным скрипом. Одно время или, как любил говаривать Рыбников, «ещё в той жизни», до армии, ему довелось поработать плотником. Где-то в нём глубокой занозой ещё сидели навыки плотницкого ремесла, а полузабытые запахи свежих опилок и вьющейся из рубанка стружки аукались в памяти воспоминаниями. Правда, мебель он никогда не мастерил, но починить расшатанную кровать ему и сегодня, наверное, не составило бы труда. Но, как обычно, руки не доходили…
Потянувшись, Рыбников укутал свою худую жилистую фигуру в махровый халат с истёртыми на локтях до полупрозрачности рукавами и, пробив плечом занавеску из длинных, свисавших до пола капроновых шнуров, на которых гулко колыхнулись короткие трубочки из бамбука, нанизанные вперемежку с керамическими шариками, поплёлся на кухню. Можно было бы, конечно, покурить и в постели, Рыбников жил один, но тогда на остаток ночи пришлось бы открыть форточку, а за окном – не май месяц. Конец декабря, как-никак…
На кухне он прикрыл дверь, щёлкнув зажигалкой, прикурил, глубоко затянулся. Затем, поднявшись на цыпочки, выпустил тонкую струйку дыма в чугунный барельеф оленя на вентиляционной решётке. Не повезло. Дым ударился в мощный олений торс, отлетел в сторону и, зависая сизыми горизонтальными пластами, распределился под потолком. Рыбников вздохнул и потянул на себя шпингалет форточки, покрытый густым слоем белой масляной краски. В лицо ударил обжигающий свежий воздух, разгоняя табачный дым и остатки сна. Из морозной темноты улицы полетели и заискрились, кружась в освещённом пространстве кухни, снежинки.
– Ладно, – решил Рыбников. – Всё равно скоро вставать.
Он зажёг газ, поставил на плиту чайник с кляксой отбитой эмали. Вынул из пузатого, старого, но всё ещё отлично морозившего холодильника ЗИЛ, напоминавшего однорукого бандита, затвердевший кирпичик масла. Подумав, прибавил к маслу колбасу сомнительной свежести. Скрипнул дверцей навесного шкафчика, достал французский батон, банку «Нескафе», недавно купленную по случаю чашку, на лазурных стенках которой ядовитым пятном желтела карта неизвестного острова. И задумался.
Уже которую ночь подряд его мучил один и тот же сон. Внезапно, без видимых на то причин, на горизонте появлялась огромная, как гора, волна. Она ширилась, росла и, набегая, обрушивалась на Рыбникова. Он не понимал природу этой волны, но интуитивно чувствовал, что она таит в себе что-то страшное. Каждый раз, когда волна приближалась, Рыбникова захлёстывал какой-то почти животный ужас, он кричал и просыпался. Так было и этой ночью. Только добавилось ещё кое-что. На гребне волны появился чёрный внедорожник. И дальше волна неслась прямо на Рыбникова с чёрным силуэтом машины на гребне, поигрывая включёнными фарами. Букет… Возникало потом в мозгу в пограничном состоянии между явью и сном. Нет, это не был чей-то голос. Слово складывалось само по себе, как мозаика из разноцветных стёклышек в детском калейдоскопе, и тут же рассыпалось на маленькие осколки. Что за ерунда? Волна, внедорожник, букет… Какая между всем этим связь? И при чём тут он, Рыбников?
Всё утро, пока он собирался на работу, трясся в полупустом, промёрзшем и раннем троллейбусе до Дома печати и, с отсутствующим взглядом, сидел на редакционной планёрке, он продолжал размышлять о непонятных сновидениях, по-прежнему тщетно пытаясь разгадать первопричину их появления.
– Как это не понимаешь? – выслушав Рыбникова, притворно изумилась Татьяна Олеговна, сотрудник отдела писем, когда после планёрки они вместе с Рыбниковым вышли покурить к лифту. При этом её губы в гранатово-алой помаде слегка дрогнули, стремясь разойтись в улыбке, а на щеках едва заметно обозначились миловидные ямочки. Как часто бывает с эффектными женщинами средних лет и притягательных форм, она уже не могла общаться со свободным мужчиной иначе, чем в иронично-завлекательном ключе.
– Ты разве не знаешь, Коленька, что Фрейд называл сон «королевской дорогой в подсознание»?
– Ты это к чему?
– Да всё к тому – от букета цветов до волны один шаг! Эх, Коля, Коля… Захлестнёт тебя волна страсти, затянут в пучину замужние бабы! Ты, кстати, на Новый год с кем и куда?
– При чём тут бабы? Я с тобой серьёзно, а ты…
– Так и я серьёзно! Смотри, как встретишь Новый год, так его и проведёшь! Я вот что давно хотела тебе сказать…
– Николай Алексаныч, вас к главному, – на лестничную площадку выскочил долговязый стажёр Кочетков и снова нырнул в коридор.
Рыбников благодарно посмотрел ему вслед и, радуясь неожиданному избавлению, поспешил в кабинет шефа.
Владимир Ефимович, главный редактор городской газеты, с устоявшейся со времён перестройки репутацией «флагмана жёлтой прессы», дожидался Рыбникова за широким дубовым столом, загромождённым бумагами, папками и прочей офисной дребеденью. Его левая рука с тлеющей сигаретой, как пьедестал, поддерживала коротко остриженную голову с крупным мясистым носом и увесистыми щеками. В нужный момент производился демонстративный щелчок, не нарушавший, впрочем, общего архитектурного единства монумента, и сигаретный пепел, срываясь с вершины, падал точно в стоявшую перед редактором и служившую пепельницей большую морскую раковину с кривыми шипами. Тем временем пальцы редакторской правой руки, безбожно фальшивя, волнообразно отстукивали по столешнице собачий вальс.
– О чём думаешь? – вкрадчиво произнёс он, метнув в Рыбникова из-под больших, в золотой оправе, очков пронзительный взгляд.
– Не понял, Владимир Ефимович, – смешался Рыбников.
– Всё ты понял! – неожиданно взорвался главный. – Ходишь как неприкаянный, на планёрке ворон считаешь! За тобой подвал в субботний номер, не забыл? Где статья? Есть что-нибудь?
– Конкретного пока ничего. Так, размышления…
– А мне насрать с высокой колокольни и на конкретику твою, и на размышления! Понял, Рыбников? Не нарыл материал, значит присочини что-нибудь! Мне нужно, чтобы номер расходился, как горячие пирожки! А уж там сбрехал ты чего или нет – вопрос второй. Ясно?