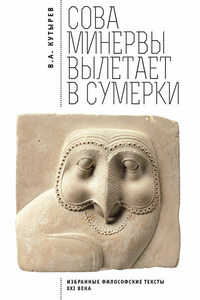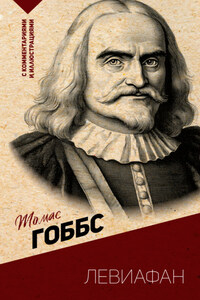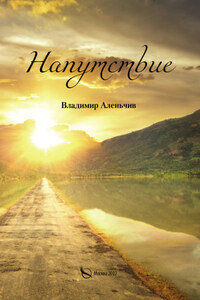I. Познавая себя и ближнего
Четыре города. – То ли потому, что Мюнхен не слишком большой и не слишком маленький, а может потому, что живописная горная речка протекает через самый его центр и на зеленых берегах ее можно беспрепятственно купаться и загорать, то ли по той причине, что славный и в меру одиозный Франц-Иозеф Штраус заблаговременно приютил в этих исконно аграрных краях современнейшую индустрию, а то ли по причине небольшого «магического квадрата», оформившего центр города так, что по нему можно гулять ежедневно – и нисколько не наскучит, или еще потому, что сам фюрер когда-то облюбовал его, а может просто вследствие гармонического архитектурного соседства всех минувших эпох – от Средневековья до современности, – как бы то ни было, но этот город, который даже близко нельзя отнести к числу самых красивых городов мира, тем не менее, по единогласному заверению очень многих и разных людей, разумеется, не коренных мюнхенцев, людей повидавших весь мир и могущих сравнить, является самым благоприятным городом в мире, – просто для того, чтобы жить в нем повседневной жизнью.
Но есть ли для города лучшая похвала?
Зато только в трех городах мира – Венеции, Амстердаме и Санкт-Петербурге – и конечно же по причине их сквозной пронизанности водными каналами непроизвольно рождается желание бродить по ним часами, днями, месяцами, годами, столетиями – и не надоест: тут дело в том, что разорванные образы домов, деревьев, неба и людей не только отражаются в зеркальной поверхности воды, но и как бы уходят вглубь ее, так что складывается впечатление, будто внешний мир не запечатлен намертво на водных зеркалах, подобно насекомым на гербарийных иглах, но обладает таинственными нишами в глубине зеркал, куда он (мир) по странной прихоти исчезает и откуда снова возвращается, а поскольку время, как и свет, имеет не только квантовую, но и волновую природу, то и вся прошлая, но также и будущая жизнь этих городов, вместе с биографиями их прежних и будущих жителей, принимает участие в этом магическом спектакле наравне с настоящим моментом, причем не то, что мы видим, слышим и представляем, бродя как зачарованные по улицам вдоль каналов, существенно, а существенно как раз то, что нельзя видеть, слышать и представлять, – оно и есть единое на потребу: то великое и невидимое бытие, слитное предощущение которого сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и осуществление которого мы обычно видим либо в боге, либо в смерти, – да, вот в такие минуты древняя, как мир, сделка с дьяволом приходит на ум: продать душу дьяволу за возможность вечно бродить по этим трем заветным городам, – и хотя сделка эта заведомо проигрышная – ведь никогда дьявол не предложит человеку больше, чем Господь-бог – все-таки в данном случае это посмертное блуждание по Венеции, Амстердаму и Санкт-Петербургу, разумеется, без ограничений во времени и пространстве, без страха смерти и телесного разрушения, даже без оправданного опасения, что нам все это рано или поздно наскучит, зато с неотразимой – потому что запретной – прелестью проникновения во все дома и квартиры со всей их таинственной внутренней жизнью и в пределах суммарного исторического времени, – итак, это потустороннее блуждание, уступая заранее господним возможностям – разве астральные миры не превосходят в бесконечные разы ареалы трех названных городов? – да, это фантастическое, безумное, одержимое греховной поэзией блуждание представляется все-таки настолько экзистенциально обоснованным и соблазнительным, что заведомо проигрышная сделка с дьяволом насчет продажи души как-то сама собой приходит на ум, – и не то что бы мы на нее согласились, выражаясь вместе с Атосом, но о ней можно хотя бы поразмыслить на досуге.
Но есть ли для города слава выше этой?
Добрый знак. – Если когда-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор (чрезвычайно добродушного и общительного человека) вы спонтанно разговоритесь и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, мечтательно промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент, подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» (а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре) и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?» – так вот, после того как вы разубедите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены.
Но пока только в этом.
Недоразумение. – Прогуливаясь по Зендлингерштрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой трогательной достопримечательности города, где в аркадах сидит как обычно старик-нищий, рассеянно разглядывая праздную толпу и пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, вы замечаете какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба; далее, вы видите, что обратил на нее внимание и старик-нищий: в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок и замусоленной кепкой в руке, он тоже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам и почему-то неуверенным жестом указывает на кепку, не отражается и следа известного волнения, – и вот как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вам хочется сказать ему что-нибудь общечеловечески веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь? – однако он, точно догадавшись о ваших несуразных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – и вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – да, вот тогда эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.