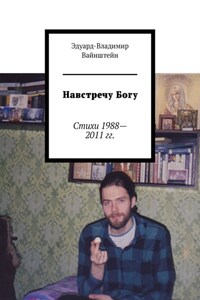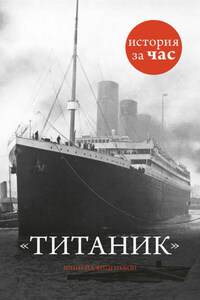Лучше писать для себя и потерять читателя,
Чем писать для читателя и потерять себя.
Сирил Конноли.
Я не знаю, зачем этот текст. Может быть, попытка оправдания, ведь я никогда не мог защитить свою внебытийность. Это универсальное междусловие можно отнести к любому из моих текстов, но попало оно сюда и не поддаётся вычеркиваемости… Похоже немного на декларативный потуг, симулирующий рождение будущего «нечто», ибо в наше время нет смысла не эпохальничать (мудрое словечко нарисовалось – уже польза). Я не знаю кому, когда и зачем надобится поэзия, которую давно никто не «всасывает» (хотя, зачем здесь кавычки – для людей без кожи они только создадут подобие панциря, а для прочих и без этого текста хватает недевственных курсисток при скудоумных культуродеятелях). Я точно знаю, что после этой вставной конструкции придётся делать грустные глаза и демонстрировать свою неверблюдность.
А вообще, могу я подарить себе свои стихи, ничего не декларируя и не оправдываясь? Убаюкать себя, на время захомячить в свой жадный карман кусочек настоящего, не кастрированного политикой и пиитикой чувства. Могу! И хочу! И превыше моего желания может быть только… Да просто выше этого только задранная попка псевдожизни, но я, и пусть это моё единственное достоинство, никогда не вёлся на остывшие макароны (пусть понимают, как хотят – они знают слово «интерпретация»).
Одно я знаю абсолютно точно – в этих «записках мимошедшего» все по беспределу честно и нет ни капельки (забавен язык) онанизма.
Колыбельная для
Люцифера
(1989 – 1991)
Каждый бой по себе выбирает смерть.
Тим Александр Кельт
Это было совсем недавно, когда количество волос на моей голове ещё можно было назвать причёской, а количество слов в лексиконе – достаточным для поступления на филфак. Рок-н-ролльщик, спортсмен и секретарь комсомольской организации постепенно деформировался в «проклятущего поэта» и алкоголика. Шесть струн болгарского «Орфеуса», подпалённого в костре, нехилые вылазки в петербургское сопливое пространство, и девочки, пишущие длинные курсистские романы… Гнилая романтика леса и деревенские танцы с томиком Рембо в кармане. Областные олимпиады по математике и биологии и разбитые очки в пьяных спорах о Моррисоне. И верные друзья, рисующие, стихоблудствующие, гитарощиплющие. Именно тогда рождались темы для картин – «Девочка на шару», «Бурлюки на «Волге», «Спирохета, вызывающая сифилис», «Декабристы будят Герцена»… И тексты, тексты, тексты… Первая отповедь из журнала «Парус» о несоветскости стихов и первые песни в соавторстве с Винни (теперь он доктор философии в Нидерландах). Это было одновременно «stairway to heaven» и спуск в преисподнюю, поиск «house of rising sun» и «пути в сторону леса». Почему-то сейчас захотелось это вспомнить… Для нестатистов того пространства, да и для себя. Тот момент, когда возраст Рембо и Божидара не позволял врать и слушаться классиков.
Нюхайте, пяльтесь и прыгайте назад на четверть века. Тогда я стал Кельтом. И перестал быть мальчиком…
Нарисуй меня черным всадником
В инквизиторском белом костре,
В императорском сюртуке
И в агонии бледных сумерек.
Распиши это небо мной,
Пьющим затхлость монашеской кельи,
Офицером английского флота,
Менестрелем-бродягой севера.
Вышей образ мой на плаще
Матадора или мессии…
И в бурлящем стакане ваганта,
И на вывеске дома терпимости,
И на крыльях подбитого лебедя
Пусть глаза мои будут осенние.
Выжги профиль мой на груди
У седого крупье Монте-Карло,
На цыганском платке у торговки,
На борту корабля из Испании…
Но когда ты вернёшься ко мне,
Я спою тебе песню кельта —
Гимн моей негритянской России,
Ослеплённой и преданной пеплу.
И когда в поцелуйном преддверии
Ты протянешь мне губы печальные
Я умру. Ибо я не любил тебя.
Ты простишь. Ибо Смерть – тебе имя.
Дмитрию Лапушкину
Скрипач играл Сарасате,
Ветер выхлёстывал лица.
Тоска до кровавой рвоты
И смех истеричных глаз.
Но тихо сошла Богоматерь
С убийцами сына проститься.
Огонь наводил позолоту
На старые зеркала.
Деревья сплетались с закатом,
Меня приглашая на танец,
Да я ведь игрок, а не зритель
Пути сквозь петлю на погост.
В шеренгу расставят солдат, и
Проступит кровь сквозь сутану,
И пепел грехопролитий
Покроет улыбки звёзд.
А я, никому не нужный,
Подам, как предам, Ван-Гогу
Малиновым золотом сада,
Взращённого мертвецом.
И он мне отрежет уши
И ссутенерит богу.
Погаснет сирень заката,
В деревья вплетя лицо.
Мне стыдно, что я невиновен
И мой костёр не в крови.
Я выстроил Имя Слова
И Храм Февраля на Любви.
Распятье…. Багровой тучей
Легла на колки голова
За то, что бог невезучий
Позволил себя целовать.
Гуляйте, пока не застрелят,
Стреляйте, пока дают.
Есть в смерти шальная прелесть —
Вертеть в руках не свою.
Мне числа имени разрезали чело,
За то, что боль хранил в порочном теле.
За то, что имя: тайна, Вавилон…
Царапал на развалинах борделя.
За то, что всадник был и белый конь
(Я имя помню лишь наполовину)
Легло клеймо на правую ладонь
И когти на подставленную спину.
Но я с утра ещё вернусь домой
И матом изрисую всю страницу.
Да, ты права, трубил уже Седьмой.
Пал Вавилон, великая блудница!
Да, это жизнь моя сволочная покатилась
башкой стюартовой.
Да, это ересь моя. Поймай, наизнанку выверни.
Но, жаль, не мои сокола разорвут утром рты ветрам
Да Николе сплетут мягкой травы ремни.
Видно, последний омут лишь головой постичь.
Эти же строчки пиявками сердцу привычнее.
Благослови, опозорь, бедный Иисус Иосифович
И не крести. Так мне сподручней язычничать.
Да, это бог дрожит себя под оплёванной скатертью,
Да, это танец мой – пеной с губ эпилептика.
Но долго петляет Россия – с чёртовой матери
До святого отца. Да один поводырь. Некто Хлебников.
Да пожалейте ж меня, губы в кровь искусавшего!
Но лишь каблуком между строк и грязную кость
под дождь….
А икнётся – закашляешь, выйдет любовь красной кашею.
Здесь время года – покос да место встречи – погост.
Так что ж?
Ведь весну не уймёшь – молча сушите простыни….
Последний крик совы последней ночи,
И кто-то скрипку рвёт в пустой часовне.
Но молоком умыты руки зодчих
И кровью – менестрелей-песнословов.
А в унисон с простуженной свирелью
Выводит флейта смертный клич Аттилы.
И серебром укроет колыбели,
Кто медью укрывал свои могилы.
Шарманщик спать уложит попугая
И, накормив судьбу, стакан достанет.
А снег, краснея перед звёздной стаей,
Вслед за костром вольётся в белый танец.
Мне обруч рек на горло-небо.
Клеймо луны на грудь – земля мне.
Меня встречали – где-то хлебом,
А где-то просто п….ми.
Имел рассвет – вручил расстрелам,