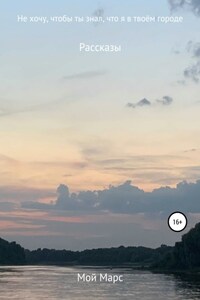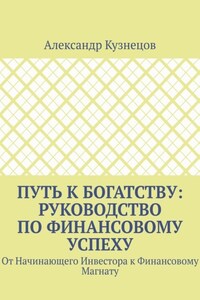— Мне нужны мои письма, - цедит сквозь зубы, сверля её тяжелым, пронизывающим насквозь взглядом.
У Алёнки внутри всё сворачивается жгутом, дыхание перехватывает, и слова застывают на кончике языка.
Да и что сказать? Глазкова не знает, смотрит испуганно в любимые глаза и от растерянности даже дышать не может.
Шувалов же, недолго думая, отодвигает её в сторону и бесцеремонно проходит в квартиру. У Алёнки сердце обрывается от прикосновения его горячих ладоней к плечам. Пока она приходит в себя, он безошибочно определяет её комнату и, войдя, с ходу начинает переворачивать всё вверх дном. На пол летят тетради, учебники, серёжки, браслеты, помады, тени, кофты…
Глазкова смотрит на эту вакханалию и от шока не может с места сдвинуться. Однако, когда Боря открывает шкаф с её нижним бельем, внутри что-то щёлкает. Кровь вскипает от возмущения, смущения и еще тысячи диких эмоций.
— Шувалов, ты охренел? – вскричав, подбегает она к нему и, задыхаясь от стыда, выхватывает из его рук стопку трусиков, которые тут же разлетаются разноцветным конфетти по полу. – Ты совсем больной?! Что ты творишь? Это моё нижнее бельё, придурок!
— Да что ты?! А это моя жизнь! – отыскав заветную стопку писем, припечатывает Шувалов.
И Алёнке нечем крыть. Сравнение не в бровь, а в глаз. Вот только теперь это и её жизнь тоже, и Глазкова ни за что не позволит просто взять и забрать её. Поэтому преграждает Шувалову путь и, вырывав из его рук перевязанную пачку, прячет за спину.
Боря бледнеет от гнева и начинает медленно надвигаться на неё, отчего у Алёнки сердце ухает вниз.
— Сейчас придут мои родители, - предупреждает она дрожащим голосом, пятясь от него к стене.
— Мне плевать, кто там у тебя придёт. Живо отдала мне мои письма, иначе я за себя не ручаюсь! - рычит он, загоняя её в угол.
Алёнка упрямо качает головой, хоть и понимает, что это бесполезно. Ей не справиться с этой горой мышц и тоннами звериной злобы, но она всё равно готова насмерть отстаивать то немногое, что осталось от её самых счастливых дней.
Май. Середина 90-х
— Поросенок эдакий! Все собрались, столько всего приготовила, а он шляется где-то. Ну, я ему устрою, пусть появится! – взрывается Шувалова Любовь Геннадьевна, с демонстративным стуком отставляя от себя опустевшую рюмку.
— Любаня, не горячись! – скомандовав, наполняет глава семьи бокалы гостей для очередного захода.
— Толя! Частишь, - цыкает она, грозно взглянув на бутылку в руках мужа, но он делает вид, что не слышит и спешит включиться в разговор сидящих напротив родственников. В другое время Любовь Геннадьевна бы хорошенько пропесочила Анатолия Николаевича, чтоб не наглел, но в этот вечер все ее мысли исключительно о «поросенке эдаком» - то бишь единственном и любимом сыне.
— Вот где он есть? - продолжает она возмущаться. – И крестничек туда же… Ой, как бы не натворили чего!
— Любка, прекращай! Придут, куда денутся?! – обрывает ее причитания лучшая подруга и по совместительству мать крестничка – Гладышева Вера Эдуардовна.
– Ну, правда, Любань, извелась уж вся, - поддакивает Анатолий Николаевич, о чем тут же жалеет.
— Да что ты говоришь?! – заводится на полную катушку жена. – Я – мать! Как мне не известись-то? Два года ребенок неизвестно, как и с кем там будет. Еще, не дай бог, под дедовщину попадет!
Грозное слово прогремело над праздничным столом, словно выстрел, привлекая внимание гостей к разговору хозяев дома. Естественно, никто не смог пропустить такую тему. Будто охотничьи собаки, гости с небывалым энтузиазмом набрасываются на подстреленную дичь. Галдешь поднимается, как на базаре в выходной день.
Казалось, каждый считает своим чуть ли не долгом высказаться по поводу армейской дедовщины и непременно пересказать одну из тех ужасных историй, случившуюся где-то с каким-то братом знакомого чьего-то знакомого. Через полчаса подобных рассказов Любовь Геннадьевна, хватаясь за сердце, костерит мужа на чем свет за то, что отговорил ее последовать примеру кумы и отмазать сына от армии.
— Еще чего! – грозно бахает по столу уже изрядно подвыпивший Анатолий Николаевич. - Чтоб мой сын за мамкиной юбкой прятался?
— Толя, это ты на что сейчас, дорогой, намекаешь? - взвивается кума, раздраженно смахнув со лба пшеничный локон, выбившийся из пышной укладки.
— Правда, ты че несешь-то, совсем уже что ли? - набрасывается следом Любовь Геннадьевна.
— Да ни на что я не намекаю! – возмущенно открещивается Анатолий Николаевич. - Намеки еще какие-то выдумали. Я если говорю что-то, так прямо, без ужимок!
— Ну, так говори, – продолжает напирать кума.
— Да угомонись ты, Верка, с чего бы я на Олежку бочку гнал? Хоть бы постыдилась! - не выдержав, гневно парирует мужчина.
— Ладно, разбушевался тоже, - немного смутившись, примирительно произносит она. – Просто ты так сказал…
— Ну, ляпнул с дуру, что теперь? - перебивает он ее.
— А у тебя вечно – с дуру ляпаешь, а потом люди не знают, что думать, - ворчит Любовь Геннадьевна.
— Да ну вас, на хер! - отмахивается Анатолий Николаевич и наполняет бокалы коньяком. – Давайте, лучше выпьем.
— Вот! У тебя одна только забота, а что там с сыном будет - до фонаря, - резюмирует Шувалова и с тяжелом вздохом делает глоток коньяка. Муж и подруга заговорчески переглянувшись, едва сдерживают улыбки.
— Мне, как раз-таки, не до фонаря, - поморщившись, закусывает Анатолий Николаевич коньяк лимоном. - Сейчас в стране бардачище: ни работы, ни денег, так что пусть лучше в армию идет. Всё хоть при деле будет, а то либо сопьется, либо залезет куда-нибудь не туда.
— Он что, по-твоему, совсем дурак? – возмущенно отзывается Любовь Геннадьевна, попутно отвечая кивком на чей-то вопрос с другого конца стола.
— Не дурак, но дурень еще тот, - заключает супруг, вызывая у жены приступ праведного негодования. Что это еще за сомнительный эвфемизм в адрес ненаглядного ребенка?
— Хорошего же ты мнения о сыне, - хмыкает меж тем Вера Эдуардовна, смакуя канапе с оливками и сыром.
— Да все дурни в восемнадцать лет. Наш вон, лучше что ли? - присоединяется к беседе муж Веры Эдуардовны – Александр Степанович.
— Да это понятно, Санёк, все чудят. Разница в том, что ваш – хитрожопый засранец, котелок у него варит дай бог. А наш – простой, как сибирский валенок, поэтому пусть служит. Там дисциплина, порядок и харчи дармовый. Два года пролетят, не заметит, зато повзрослеет чуток, перебесится, мозги на место встанут, - подытоживает Анатолий Николаевич.
— О, как! Поняла, кума, у него, оказывается, все просчитано, - усмехается Любовь Геннадьевна, ткнув подругу под бочок.
— Не говори, - смеется Вера Эдуардовна. – Я в шоке, Люба, сын-то у меня хитрожопый засранец.