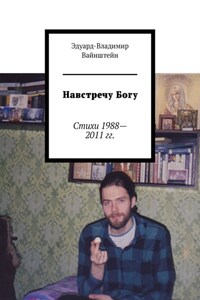Сначала
В нём музыка тревожная звучала,
Давила
Какая-то неведомая сила.
Но свыше
Зовущий тихо глас он не услышал
И долго
Пытался быть рабом семьи и долга.
Чужое
Напрасно ремесло хотел освоить,
Но мало
Постиг в холодной логике металла.
Иные
В душе его звучали позывные
И уши
Он закрывал, чтобы не рвались звуки в душу.
А звуки
В грозу манили, как в объятья руки,
Томили
Виденья смутные и ощущенье крыльев.
Но дурью
Звала жена томление по буре.
«Работать
Тебе, мой милый, – говорила, – неохота,
Томленье
В здоровом мужике всегда от лени!»
За плечи
Её он обнимал и не перечил.
Но ночью
Она заголосила что есть мочи,
Не веря,
Что руки его сплошь покрыли перья.
Хоть ужас
И овладел женой от вида мужа,
А бабой
Была она по виду хрупкой – но не слабой,
Тигрицей
Рванулась к мужу, ощипала словно птицу.
К рассвету
На коже не осталось даже следа,
И руки
Он, плача, целовал своей подруге,
Не зная,
Что божий дар за кару принимает.
Всевышний
Глаза отвёл, увидев, что он лишний.
«Бабёнку, —
Решил, – за преданность вознагражу ребёнком,
А мужа,
Бог с ней, оставлю, коль он ей так нужен…»
Но всё же
В душе жалел, что погасила искру божью.
У Бога
Свой дефицит, и божьих искр немного.
Так Богу
Простая баба перешла дорогу
И победила
Извечным – тем, что мужика любила.
А парень
Какой родился! Только муж бездарен.
Ну что же…
Не каждому даётся искра божья!
«Какая проза – в сорок лет…»
Какая проза – в сорок лет
слыть начинающим поэтом,
когда иных на свете нет,
и впереди, увы, не лето.
И ужасается рука
безмерной тяжести задачи,
поэты – баловни удачи
поглядывают свысока,
но просто жить нельзя иначе.
А белый лист, как эшафот,
когда вокруг столпились люди
и жертва еще чуда ждет,
но чудо не произойдет,
и казнь отменена не будет.
А будет белый лист манить,
как манит плаха в миг последний.
Но опоздавшему к обедне
к вечерне можно не спешить…
«Какая нежность – впору умереть».
Есть сила чувства в этой странной строчке,
так вовремя поставленная точка
пленит нас крепче, чем словесной вязи сеть.
Над Кара-Дагом облака низки,
и кажется, они всё ниже, ниже,
пустынны пляжи, волны высоки,
курортники, как ласточки, под крыши
забились.
В страхе поползли пески,
а горы словно сдвинулись поближе.
Какая сила в шуме волн, в молчанье скал,
как беспощаден надвигающийся вал,
как обнажилось хищное начало,
которое, лаская, разрушало
гранитную, доверчивую твердь.
Но морю штурмом гор не одолеть!
Где взять слова, как описать суметь,
что видишь глазом?
«Впору умереть!»
«Давно за тридцать мне, а всё никак…»
Давно за тридцать мне, а всё никак,
я не пойму, что хорошо, что плохо…
Мне говорят, что такова эпоха,
кругом бардак, не мучайся, чудак!
Но мучаюсь. Совсем простые вещи
мне недоступны: в толк я не возьму,
действительно ли сильному уму
для гибкости полезны пресс и клещи?
И надо ль славу петь сто раз на дню,
тому, кто песнопений не достоин,
лишь потому, что нам нужны герои,
а новых нет – кромсают на корню…
Я знаю, мне легко всё объяснят
в местах, где есть и средства, и уменье.
Ну, успокоюсь я, но есть сомненье,
что сам вопрос со мной искоренят.
И станет он для дочери моей
крестом, что не донёс отец убогий.
Когда в стране открыты все дороги,
зачем брести тропинкою своей?
Мы были тёмными тогда
И, глядя в даль, упорно слепы…
Но в даль в те трудные года,
пусть нынче прозвучит нелепо,
манил не рубль, а звезда!
«До чего-то пока не дошёл…»
До чего-то пока не дошёл,
не постиг самой тонкой науки.
Говорят: «Не поставлены руки»,
а мне слышится в этом: «Осёл,
так наивно пытаться залезть,
на копытах
туда, где в пуантах».
Но коль есть хоть бы капля таланта,
невозможно среди дилетантов
пить отраву по имени лесть.
Не пишу.
Ну и что?
Не помру.
Пью с соседом вино из продмага,
но опять тянет руки к перу.
Слава богу, что трудно с бумагой!
Так кто он был, безвестный предок мой,
что брёл по жёлтой тишине пустыни?
И почему глаза его и ныне,
как совести укор передо мной?
Я рос в России, здесь моя судьба –
как прядь в канате многих сходных судеб.
Полёт ракет и чёрная изба,
размах, убогость, праздники и будни –
здесь всё моё, мне нет иных путей,
умру при русском звоне погребальном…
Но он приходит ночью… «Ты – еврей» –
читаю я в глазах его печальных.
«Оставь, – я говорю ему, – уйди,
я с детства этим сыт, как кашей манной!»
Он исчезает.
Что ж так жжёт в груди,
когда я просыпаюсь слишком рано?
В. Заклунной
Когда не в меру любопытная толпа
её стоглазым взором провожает,
как мало тех, кто всё же понимает,
как ненадёжна, как крута тропа,
которой так легко она ступает.
Всем интересно – с кем она стоит,
«Который ейный муж?», «А кто любовник?»
И правда ль, что «у ей отец – полковник»?
«Поспорим, у неё холецистит…»
«Как хороша…», – шепнёт чуть слышно скромник.
И так везде.
Пойдёт кормить собак,
либо сидит в купальнике на пляже
и, тихо напевая, что-то вяжет,
стоглазый взор не отстаёт никак,
и каждый что захочет, то и скажет:
тут все вольны – и умный, и дурак.
Нахмурится, в себя погружена:
сегодня снова объясняться с мужем,
корить себя, хвалить нехитрый ужин
и сознавать, что в общем-то нужна
лишь сигарета да глоток вина.
Кинотеатра зал полупустой,
на мерзлых стенах стынущие тени,
вот гаснет свет, сейчас замрет мгновенье,
спасительной укроет темнотой,
откроет губ запретное тепло
и нежность рук, забытую, как детство.
Влюблённые в чужих, куда им деться?
Где место, чтобы спрятать их могло?
Они не знали, что бывает так,
как будто вдруг захлопнутся все двери,
и, как волной, их выбросит на берег,
где все свои, но каждые встречный – враг.
И всё ж вдвоем пока не вспыхнет свет,
вдвоем,
спасибо «студии Довженко»
за два часа короткого блаженства,
за без труда доставшийся билет,
за этот фильм – ни сердцу, ни уму,
мелькнувший незаметно, как свиданье.
Что этим двум экранные терзанья?
Они домой уйдут по одному.
На скромной кухоньке стена
резной украшена доскою.
С затейливостью городскою
в доске тоска отражена
по деревенскому покою.
Наивна грубая скамья,
фонарь-коптилка над плитою,
а на хозяйке кружевное,
то ль пончо, то ли что иное,
о чём спросить стесняюсь я.
Компания всегда одна: