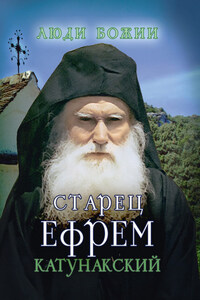Тот век немало проклинали
И не устанут проклинать,
Но как избыть его печали,
Он мягко стлал – да жестко спать.
А. Блок, Возмездие
– Вот, ты говоришь – испанцы!
– Я говорю?
– А кто же? Я, что ли? Я вообще молчу.
– Ну хорошо. Что «испанцы»?
– Как что? Смерть под солнцем. Коррида, тореро, момент истины! Красиво!
– Ну?
– Так мы тоже не лаптем щи хлебаем. У нас, у русских, все такое тоже водилось.
– Да ладно!
Мы лежали на вершине стога сена. Кроме этого стога, высокого и длинного, в тумане стояли его товарищи, похожие на огромных, молчаливых, косматых животных, которые вышли попастись в поле. Давно миновал Второй Спас – 19 августа, солнце садилось рано.
Наши охотничьи ружья лежали рядом. Мы уже приняли по первой стопке настоянной на лимонной корке водки, закусили черным хлебом с салом. Огурцы и помидоры лежали на чистой тряпочке. Нехитрый натюрморт: фляга с водкой, кирпич настоящего черного хлеба, большой кусок сала, овощи, все на фоне стелящегося понизу тумана. Полумрак, едва видные верхушки деревьев на фоне серого неба. Все располагало к неторопливой беседе.
Машину, ГАЗ-66, мы оставили в деревне: дальше дорог не было.
Сало было холодным и твердым, с бледно-розовой полосой. Черный хлеб, напротив, имел ноздреватую мякоть и глянцевую антрацитовую верхнюю корочку. Сейчас такого хлеба не делают. А тогда, в самом начале шестидесятых, если вы садились за столик в столовой, перед вами уже лежал нарезанный черный хлеб, и его можно было намазать горчицей, которая вместе с солью и перцем всегда располагалась в центре белой скатерти. Не слишком изысканно, зато бесплатно. Я хорошо помню этот черный хлеб.
Налили по второй и мечтательно устремили взоры вдаль. Вдали синел волшебный лес. Сырой воздух через много километров донес тоскливый гудок поезда. Сладко заныло сердце. Показалось, что когда-то давно я уже видел этот родной унылый пейзаж. Все это было: я лежал на мягком сене под темнеющим небом, дышал сырым воздухом, смотрел на замершее поле и едва угадывал опушку леса. Голова отдыхала, как во время молитвы. Время соединилось с пространством, и тело не чувствовало земного притяжения. Память поколений не проходит бесследно, она остается в нас.
– Я тебе расскажу, что мне дед рассказывал, – услышал я, и эти слова естественным образом улеглись в мое оцепеневшее сознание.
Он был хорошим рассказчиком, мой собеседник и старший товарищ. Я слушал, не отдавая себе отчета, во сне или наяву прилетает ко мне услышанное, прилетает и мягко ложится в память.
* * *
Сто лет назад основным транспортным средством была лошадь. Железных дорог было – раз два и обчелся. Дорогу Москва – Нижний Новгород еще не построили, а Казанскую и в помине. Она потом прошла по местности, о которой и пойдет речь. Когда построили станцию Сортировочная, появился поселок Новые Дома. Техника вторгалась в обиход. Появился котельный завод Дангауэра и Кайзера, нынешний «Компрессор».
Но это все пришло позже. А пока техника в буквальном смысле состояла из лошадиных сил.
Развивающаяся цивилизация требовала все больше энергии. Поголовье лошадей увеличивалось. Расчеты тогдашних футурологов показывали, что в следующем веке (в нашем то есть) лошадей будет столько, что их навоз заполнит улицы до второго этажа. Не случилось! Зато выхлопные газы заполнили улицы выше самых высоких небоскребов.
Лошадей было много. Костями павших лошадей даже мостили дороги. Шкуру снимали. Дед мотался по всей Москве и, если находил павшую лошадь, быстро сговаривался с хозяином и доставлял ее на живодерню, сюда, к Владимирке, за две версты от Рогожской заставы.
Дед тогда был молод, силой Бог не обидел. С детства тянулся к лошадям. Служил в кавалерии. Побывал на Кавказе, воевал чеченцев. Преследовал Шамиля, когда тот после сражения возвращался в аул Ведено, получил контузию от своей же пушки, по этой причине был отправлен домой и стал работать на живодерне.
Трупы ободранных лошадей сваливали в яму, откуда потом доставали кости. Ямы были огромные, в каждую можно было уложить хоть тысячу лошадей. Живодерня занимала обширное пространство, целое поселение с сараями, помещениями, где вытапливали сало, мыловарнями и так далее, и так далее, и так далее.
Для публики это интереса не представляло. Для публики была интересна травля. Вот там то и проводился бой быков. Вообще-то раньше травля располагалась за Тверской заставой, но потом травля переехала за заставу Рогожскую.
Быков травили собаками. Для этого содержали специальных собак меделянской породы. Это были чудовища весом по сто килограммов и более. Сказать, что волкодавы – ничего не сказать. Обычный наш среднерусский волк для такой собаки был так, комар. Складки кожи свисали с шеи собаки. Волк тщетно вцеплялся в них, нанося урон шкуре, но не внутренним органам собаки. Пес головой, как пудовым ядром, сбивал волка с ног, подминал под себя и смыкал гиреподобные челюсти на его загривке. Шея у волка, конечно, толстая и крепкая, но все же это не бычья шея. Бычью шею так просто не перекусишь. Поэтому бык был достойным соперником для нескольких псов, и, если отличался силой и отвагой, у него имелся шанс выйти из схватки победителем. Бык тоже обладал складками кожи, под которыми перекатывались железные мускулы, питаемые тестостероном, бурлящим в крови быка-производителя. От боли в кровь поступало все больше и больше этого гормона, мышцы наполнялись дикой энергией, и бывало, что бык, облепленный рычащей сворой, выбивал ворота и вырывался из круга на волю. Тогда псари долго разнимали противников, оттаскивали собак, направляли утомившегося быка сначала в загон, а затем и в стойло. Иногда часть публики выскакивала на улицу за быком, чтобы наблюдать продолжение схватки, рискуя попасть на рога или под ноги разъяренного животного.
Но мало было быков, которые могли устоять против меделянских догов. Самым главным таким быком на живодерне стал бык, которого почему-то звали Борькин. Этот Борькин поначалу был просто молодым быком, весьма стеснительным и, как казалось, даже робким. Его чуть не забраковали и не отправили на бойню.
Откуда пошло это странное имечко на аглицкий манер, неизвестно. Говорили, что получил бычка хозяин живодерни за долги от мещанина Борисова. Должно быть, поначалу быку вообще кличку не положили, называли по фамилии мещанина, все равно пускать на мясо. Борькин, Борькин – так и пошло, закрепилась за быком дурацкая кличка А оно вон как получилось! По заслугам его не Борькиным кликать, а Борис Борисычем величать.
Он был силен и крупен, а также обладал редкими длинными рогами, что давало основание некоторым высказывать мысль, что его предком, видимо, случился набредший на стадо коров дикий тур. Короче, вопреки скептикам Борькин выиграл первый бой с собаками, потом второй. Может, в нем действительно текла кровь древних буйных туров? Его стали хорошо кормить, за ним стали ухаживать по-королевски, ласкать и холить. И вот он возмужал, налился свирепостью льва и хитростью леопарда. Борькина теперь выпускали только по важным датам, когда в публике присутствовали очень богатые и очень влиятельные господа, швыряющие белые ассигнации, как бумагу. Тогда делались крупные ставки, и, вне зависимости от выигрыша, публика получала ни с чем не сравнимое удовлетворение. На обычный день в манеж выпускали быка попроще, иначе собак не напасешься, а стоили они дорого.