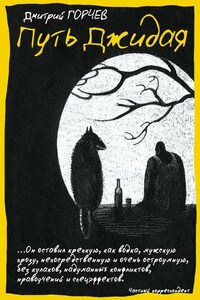У меня было самое лучшее детство, которое можно придумать. Мной совершенно никто не занимался в плохом смысле этого слова. То есть меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Мать (которую я очень люблю и уважаю), притом что я, разумеется, был всегда накормлен, умыт и постиран, решительно никак не участвовала в моём нравственном, интеллектуальном и прочем развитии, и потому этими делами я занимался сам. Я вообще доставлял очень мало хлопот – я даже практически никогда не болел. Организм мой, выпущенный ещё до наступления общества потребления, был удивительно прочен. Я вот его в последние тридцать лет тщательно уничтожаю, а он всё живёт и живёт.
Я сам ходил записываться на секции гимнастики, потом баскетбола, хоккея с шайбой и бокса. Последняя, после того как мой лучший друг ударил меня по морде, мне очень не понравилась, и я в неё больше не ходил.
Мы с моим другом Мишей занимались совершенно нелепыми с сегодняшней точки зрения занятиями. Например, начитавшись Тура Хейердала, мы строили плот Кон-Тики и бороздили на нём бескрайнюю лужу прямо за нашим домом. Или же совершенно бескорыстно таскали для строителей кирпичи на соседней стройке. Потом увлеклись фотографией и развешивали на аптекарских весах фенидон, гидрохинон, буру и поташ. Клеили гэдээровские модели самолёта Ту-144. В мае перекапывали шесть соток на даче, а осенью выкапывали картошку обратно. Подросши, слушали ансамбль битлз и будто бы случайно хватали одноклассниц за жопу.
Я вот сейчас думаю, подводя уже некоторые итоги, что из того скудного потенциала, который был мне выдан (это не кокетство, я просто очень хорошо с собой знаком), я, благодаря вышеизложенному, надавил из себя в последующей жизни раза в два больше того, что там было.
Я потрясающе, фантастически красив.
Моя красота относится к той же категории явлений окружающего мира, что восход солнца на горе Килиманджаро, рисунок созвездий в июльском небе или кудрявые березки во ржи. То есть она вечна и безусловна. Никаких сомнений она вызывать не может.
Каждое утро я стараюсь на неё полюбоваться. Тогда день обязательно будет удачным и светлым, даже если на дворе слякоть и мерзость и денег, как всегда, нету.
Иногда, правда, мне не удается этого сделать. Тут может быть несколько объяснений. Возможно, я вчера выпил лишнего, и глаза с утра открываются с трудом и не полностью. Или зеркало нужно наконец-то протереть.
А может быть, лампочка в прихожей опять перегорела. Но, так или иначе, это означает, что день уже пропал, прожит будет наверняка бездарно, и хорошо ещё, если морду не набьют.
Каждый день я стараюсь сделать для своей красоты что-нибудь хорошее. То причешусь, то умоюсь. Или хотя бы волосок из бороды выдерну. А в торжественных случаях я натираю свою красоту особой суконкой, чтобы она блестела под лучами солнца. Я даже собираюсь однажды купить для этого специальную пасту, но спешить мне некуда, потому что красота моя и так никуда не денется.
Но на самом деле жить с такой красотой не так уж просто.
Женщины, стыдясь своего ложного совершенства рядом с моими чистыми и прекрасными линиями, уходят к уродливым мужчинам, чтобы блистать на их волосатом и кособоком фоне.
Начальство, остро чувствуя в моём присутствии собственную плешивость и морщинистость, орёт на меня, выпучив глаза. Оно не добавляет мне зарплату, не продвигает по службе и вообще грозится уволить.
Милиция, та вообще не может мимо меня спокойно пройти. Она понимает, что такая красота просто так по улице ходить не станет, и наверняка тут не обошлось без мафии или других высших сил. Она долго сличает мою красоту с её жалким оттиском в измятом паспорте, понимая, что придраться тут не к чему, а вот так взять и отпустить тоже не годится. Потом она со вздохом отдает мне свою честь, чтобы, обойдя квартал, снова спросить паспорт.
Всё это очень неприятно на самом деле.
Но я не отчаиваюсь. Я знаю, что завтра утром вновь увижу настоящую неподдельную красоту. Если, конечно, лампочка в прихожей не перегорит. А зеркало я сегодня же непременно протру.
Вот приду с работы и протру, для меня это сущий пустяк.
Про смерть я задумался однажды при очень неподходящих обстоятельствах.
Было мне лет девять, и проводил я летние каникулы у тётки в деревне. И вот как-то вечером я сидел и читал книжку Тура Хейердала, не то Аку-Аку, не то Кон-Тики, а тётка сидела на койке напротив и стригла ногти на ногах.
Я оторвался на минуту от книжки и неожиданно подумал: «А ведь она когда-нибудь умрёт» (тётке сейчас, кстати, сильно за девяносто, и она по сей день жива, чего и далее ей желаю). Нет, я, конечно, знал и раньше, что люди умирают, но знал как-то теоретически. Ну, помирают где-то там, а может, и не помирают. Взрослые эти, вообще, чего только не напридумают.
А тут вдруг я понял, что это правда: вот сидит, допустим, тётка, сидит – и вдруг хлоп! – и померла.
Мысль меня эта почему-то так поразила, что я дня два ходил такой потрясённый, что у меня даже разболелся зуб. И болел он целую неделю непрерывно. Мне время от времени засовывали в рот таблетку анальгина, и тогда зуб болел слабее, но боль всё равно никуда не уходила, а просто пряталась за соседним зубом, и я уже не мог ничего разобрать – где боль, а где смерть.
А ещё некоторые говорят, что будто бы детство – счастливая пора. Память у них хуёвая потому что.
А потом я однажды проснулся днём: а зуб не болит! То есть вообще нигде не болит. Умер наверное.
Я, шатаясь, выполз в огуречник, выдернул морковку, вытер об штаны и съел. Потом съел очень твёрдое и кислое яблоко – нет, всё равно ничего не болит.
И солнце эдак светит, как светило потом всего ещё в один счастливый день, когда я уволился с должности школьного учителя. И какая, скажите, смерть, когда такое солнце?
Я лёг на траву под яблоню и впервые в жизни увидел богомола. Был он смешной, зелёный, и было совершенно непонятно, почему это существо не разваливается и на чём вообще эти спички держатся.
Богомол посмотрел на меня мрачно, тяжело вздохнул и убрёл куда-то: видимо, размножаться.
Когда-то давно, когда я только недавно закончил школу и учился на первом курсе института, решили мы с друзьями правильно поздравить баб с международным женским днём.
Тогда ещё не было этого гендерного шовинизма и бабы были просто бабы – милые и прекрасные.
А правильно поздравить – это значит не подарить им по открыточке с цветочками и блокнотику с шариковой ручкой, а всё как у взрослых: накрыть стол, выпить по рюмке, станцевать что-нибудь под магнитофон, а затем уже, если получится, выразить им свою огромную и нестерпимую любовь. В смысле каждый отдельный своей отдельной избраннице. Для этого у нас была целая квартира с двумя комнатами, кухней и совмещённым санузлом. Ибо коллективизм тогда поощрялся только в комсомольских организациях.